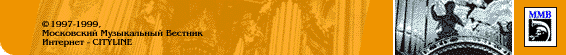| |
Рышард Перыт:
Музыка - это след Бога
- В октябре я имел возможность полностью увидеть ваш цикл постановок
Монтеверди и "Эвридику" Пери. Перед этим, лет восемь назад, я видел все
ваши моцартовские постановки (кроме тех, что появились позже). Мне
показалось, что в Монтеверди ваш режиссерский стиль стал несколько более
аскетичным. Это вызвано характером материала или с годами ваш стиль
меняется?
- Я немного постарел. Десять лет, как мы каждый год играем всего
Моцарта. Значит, мне было сорок, теперь за пятьдесят. Но мне кажется, что
мой стиль всегда тот же самый, потому что это укоренено внутри - не
физически, но метафизически, в душе, а она не стареет. Музыка очень разная,
а я от самого начала работаю с музыкой, не с либретто. Когда начиналась
Флорентийская Камерата, вся цивилизованная Европа получала первые сигналы
об этих открытиях античности. И для них, как я читал в книгах и архивных
материалах того времени, самым главным вопросом было: что такое был
древнегреческий театр. Из этих размышлений мы имеем сейчас оперу, потому
что они пробовали идти путем, которым шли древние. И для них самым главным
- это банально, но это важно подчеркнуть - самым главным была экспрессия
слова. Значит, музыка была только, так сказать, средством, благодаря
которому экспрессия слова могла существовать и развиваться. И это самое
главное различие между музыкой Монтеверди и Моцарта. Риторическая глубина
у Монтеверди находится в размышлении о слове. У Моцарта, думаю - в
гармонии.
Монтеверди после этих древних мифов - мифа Орфея, мифа Одиссея – написал
первую в истории историческую оперу. Он первым сделал в опере то, что
делал Шекспир. Нерон - это не мифология, это современные происшествия,
история Нерона и Поппеи была историей на расстоянии вытянутой руки. И
Монтеверди написал эту оперу как свою последнюю серьезную вещь, как
завещание. Он знал, что происходит в Венеции и во всей Европе, какая
грозная, самоубийственная духовная болезнь развивается, когда мораль и
этика перенесены на территорию идеологии и, значит, могут быть изменены.
Были нерушимые принципы, десять заповедей, как Бог сказал - так было
сказано и это было ясно.
Но начались "приближения" этики к себе и к своим мотивациям. Этика и
мораль начинают быть в моем распоряжении, я решаю, что морально, а что нет:
это ад, это начинается ад. И потому я сделал "Коронацию Поппеи" в этом
инфернальном направлении. И самое парадоксальное: Монтеверди пишет для
этих двух страшных персонажей, Поппеи и Нерона, последний дуэт – музыку
любви. Но они убийцы. Это самое потрясающее, что он в этот финал вложил
самое высокое, гармонию музыки, но поют эту музыку двое злых людей. Злые
люди завладели гармонией.
- В ваших спектаклях я никогда не встречал того, что сейчас очень
распространено среди режиссеров - актуализации. Вы в принципе никогда ею
не пользуетесь или считаете возможным только для произведений
определенного типа?
- Меня не интересует, какие связи между тем, что я вижу вокруг себя и
тем, что я вижу в работе, потому что самое главное для меня - это вопрос о
человеке. Для меня тот человек, который меняется - это не самое главное,
главное, что он понимает из того, что вокруг него происходит. И эти
принципы зависят от самого Бога, они не подлежат реформированию. Белое
должно быть белым, черное - черным. Я видел в Цюрихе "Милосердине Тита",
где все были одеты, как сегодня на вечеринке, а Тит имел в руке
персональный компьютер и над этим компьютером думал, подписать или не
подписать смертный приговор Сексту. Спасибо большое. Я видел современные
версии Моцарта Питера Селларса. Фиордилиджи и Дорабелла сидят в баре и
речитатив поют в мобильник, через большое окно видишь Манхеттен. Это
жадное осовременивание для меня - варварство. Значит, он не понимает, этот
режиссер, что у Моцарта, но пробует дать себя на первый план. Поэтому
Моцарт не виден, он заслонил Моцарта своими глупыми делами. Это варварство
для меня, потому что стиль - это не условность, это человек. Значит, если
ты думаешь, что значит стиль, ты должен искать вопросов человеческих, не
вопросов фельетонных. Меня нисколько не интересует то, что я вижу вокруг
себя: эта культура агрессивного образа, агрессивного звука. Никакой мысли,
только некотролируемые эмоции, и новое, новое, новое... Это такая болезнь,
это гонка без всякого смысла. Это не сублимация, это физиология.
А для меня самое главное - теология. Вопрос о человеке, вопрос о том, что
после смерти: не жизнь как она есть, а то невидимое, которое я могу
увидеть. Музыка для меня - это след Бога. Не важно, православных это Бог,
протестантов или католиков: Бог - творец, личность, которая любит. Не
грозный судия, но отец, который любит, истинно любит. И он написал для нас
письмо любви: Священное Писание - это для меня письмо любви. Когда ты
читаешь письмо от той, которая влюблена в тебя, то ты читаешь не только то,
что написано, но ты читаешь между строк и между словами, потому что знаешь,
что она или он любит тебя, и ты любишь, значит, в ином смысле читаешь.
Читаешь то, что написано, но и многое, что не написано. А более истинное -
это ненаписанное. И для меня музыка, партитура - я начинаю работу с чтения
партитуры - это для меня любовное письмо. Это как иероглиф, я пробую найти,
что написано через музыку. Музыка для меня - это экзистенция духовная,
театр - экзистенция физическая, но эта духовная экзистенция, партитура
оперы имеет ностальгию, чтобы иметь тело. Значит, мой путь в театре -
воплотить партитуру, чтобы театр стал телом - телом для партитуры.
- Когда вы работаете с художником, в какой степени художник выполняет
то, что вы хотите, или, напротив, предлагает что-то, от чего вы потом
можете оттолкнуться?
- Иногда я сам делаю сценографию. Например, в Белграде я сам сделал и
костюмы, и декорации для "Поругания Лукреции" Бриттена, потому что когда у
меня есть очень сильная идея того, как понять партитуру, я не могу этого
интимного другому сказать, потому что это будет, может, и хорошо, но это
будет другой мир. В "Мессии" Генделя в Быдгощи, в прошлом году, я тоже все
сделал сам: режиссуру, декорации, костюмы. Потому что "Мессия" для меня -
это самое интимное.
Мне в Быдгоще предложили ставить "Мефистофеля" Бойто, но я сказал, что в
год 2000-летия Христа я хочу ставить не "Мефистофеля", а другую оперу на
"м" - "Мессию". Здесь, в Камерной Опере, с Анджеем Садовским мы вместе
сделали весь цикл Монтеверди, всего Моцарта, много барочных опер. Мы уже
двадцать лет работаем вместе, и он, как моя рука: я говорю, а он тут же
делает эскизы и показывает мне. Но у него свой стиль. Мы работаем многие
годы и будем работать, думаю, до конца жизни, но когда я хочу сказать
что-то только своим голосом, хочу взять полную ответственность за то, что
говорю, я все делаю сам. Не потому что я такой хороший художник, но потому,
что я хочу, чтобы это было только мое.
- А как это отражается на работе с актерами? Они имеют право
импровизировать?
- Если они талантливые и если то, что они предлагают, мне нравится, я
счастлив. Но это очень редкий случай - встретить солиста, который понимает
эту глубину и хочет ее искать. Потому что нормальный певец хочет петь, и
петь красиво, а не мыслить при этом, почему я пою такую ноту, почему такая
орнаментация, что она значит - не как я великолепно исполню ее, но что она
значит.
Например, когда Царица ночи поет свои колоратуры, все хотят, чтобы фа было.
Это первое и обязательное. Но что она значит, эта колоратура? Она значит,
что Царица ночи врет. В первой арии она врет Тамино, что она мать, которая
потеряла любимую дочь, но она обманывает, она как дьявол, говорит неправду
так, как будто это правда. Это задание для актера. А во второй арии она
говорит дочери: "Ты должна убить солнце, Зароастро, свет, или ты не будешь
моя дочь", - и бросает ей нож. Подобные колоратуры во второй арии означают,
что все надо разбить. "Zerstummert alle Bande der Natur", - все
натуральные, семейные связи надо разбить, если ты не убьешь Бога. Я
коротко говорю, упрощаю, но это дьявольская, инфернальная ария: разбить
все семьи. Мы это хорошо знаем. Эта идеология была очень-очень сильна, и
мы все дети этой идеологии.
Много таких вопросов я нахожу в партитуре, для меня это такой же анализ,
как анализ Чехова по Станиславскому - элементарный актерский анализ. Ведь
я был актером, а потом был режиссером драматического театра, и это очень
помогает мне в работе с музыкой, потому что музыка - немного иной язык, но
это язык экспрессии, как и слово. Спетое слово - это самое важное, тогда
мы возвращаемся в самое начало нашей цивилизации, когда Давид пел псалмы.
Это было до театра, а великий польский поэт Циприан Норвит сделал
латинскую этимологию слова "театр": teatr - te atrium - atrium dei, значит,
коридор к Богу - не место, где живет Бог, коридор Бога. И я думаю, что
театр должен быть коридором Бога. Есть работа в плане горизонтальном, в
плане сюжета, техники, слова, артикуляция, композиции - и есть
вертикальные отношения. Это структура для театра.
- Большую часть своих спектаклей вы поставили на этой сцене Камерной
Оперы. Вам никогда не бывало тесно в этом маленьком пространстве? И отсюда
второй вопрос: есть ли для вас принципиальные отличия в работе на большой
и на малой сцене?
- Я начинал не здесь. Я ставил и ставлю много спектаклей на больших
сценах в Польше и за границей: в театре Ла Фениче, в Ганновере, во Франции,
Испании, Голландии, в Каире, в Анкаре. Я начинал на больших сценах, но для
Моцарта искал такого пространства, какое, как мне кажется, было в его
время. Театр в Праге, где впервые был сыгран "Дон Жуан" (когда старый
Казанова сидел в ложе) - это такой же театр, не больше. Значит, для
Моцарта сущностным был контакт глаза в глаза, семейные отношения между тем,
что на сцене, и публикой. Это стиль. Потом девятнадцатый век построил эти
махины, и это изменило все. Первоначально это было место для встречи
музыки с людьми, которые размышляют о том, что происходит, и смотрят глаза
в глаза. Можно видеть лица, жесты на расстоянии вытянутой руки. И можно
сказать, что это лаборатория для самых главных вопросов. Но на больших
сценах режиссер-постановщик должен мыслить большой картиной и большой
экспрессией. Это очевидно другое дело, но мысль, способ подготовки те же
самые – техника иная.
- Несколько лет назад вы в течение, кажется, двух сезонов были
артистическим директором Большого театра и потом оттуда ушли. С чем это
было связано?
- Это был рекорд мира в краткости - я был артистическим директором
семь месяцев. Сначала я думал, что будет план на пять лет: у меня была
идея сделать в 2001 году Варшавский фестиваль Верди -цикл всех его опер,
сделать в Большом театре фестиваль к 400-летию оперы. Но когда дирекция
сказала, что они не согласны, я сложил миссию и вернулся сюда, в
Варшавскую Камерную Оперу. Это было в 1997 году. Я понял, что приходить в
театр, как урядник и между другими делами два часа репетировать - это не
для меня, мне нужно приходить в театр на репетицию, знаете разницу? Это
был такой не очень приятный эпизод, как болезнь.
- Помимо Камерной Оперы есть какие-то театры, с которыми вы постоянно
поддерживаете контакты и в которых вам работать наиболее комфортно и
интересно?
- Для меня Варшавская Камерная Опера, Стефан Сутковский, Анджей Садовский,
певцы, которые здесь работают - это моя семья, и я могу сказать, что
Камерная Опера для меня - дом. Когда я работаю на других сценах - это для
меня гостиница. Я открыт для встреч с другими людьми, с которыми работаю
вместе, но это другое дело, это не семья. А для меня первое - семья.
- Вы уже поставили всего Моцарта, всего Монтеверди, хотели поставить
всего Верди. У вас есть еще идеи таких монографических фестивалей,
например, Генделя?
- Нет. Моцарт - это был исход из сердца. В самом начале нашего
разговора Сутковский спросил: "Что вы хотите делать в Камерной Опере?" - "Литургическую
музыку и Моцарта". - "А что Моцарта?" А я ответил: "Все, что написано". Мы
и сделали вместе этот фестиваль, потому что я Моцарта люблю, и если любишь,
значит, хочешь все сделать для того, кого любишь. А поскольку я режиссер,
я поставил все сценические вещи, это была моя мечта, и я это сделал для
Моцарта. Монтеверди, Моцарт и Верди - это три главные колонны, которые для
меня определяют в глубоком смысле, что такое опера. Другие композиторы -
производные от них, а они - как отцы-основатели в семье: Монтеверди как
начало, Моцарт как классическое развитие и Верди как романтическое, в
девятнадцатом веке.
- В двадцатом веке для вас нет такой фигуры?
- Не вижу для двадцатого века такой фигуры. Я могу назвать Бриттена со
"Смертью в Венеции", Прокофьева с "Огненным ангелом", могу назвать "Царя
Эдипа" Стравинского, "Черную маску" Пендерецкого. Это великие оперы, но
это не новое, все идет из Верди. Моцарт, Верди, Монтеверди - это целый мир,
это очевидно.
- Вы, наверное, как никто из режиссеров, много ставили произведений, не
предназначенных для сцены: кантат, ораторий.
- Вы меня спросили двадцать минут назад, не тесно ли мне здесь? Я
потому и делаю вещи, которые не для сцены, что работаю с партитурой и
нахожу партитуры, которые не написаны как оперы, но для меня это оперы в
глубоком смысле. Например, Реквием Верди для меня - самая великая опера
Верди. Я думаю, что никогда не буду ставить Реквием Моцарта, потому что
эта партитура Моцарта - это музыка религиозная, молитва к Богу. Но Реквием
Верди - не молитва, но спор с Богом, это диалог, но не молитвенный диалог.
И он написан тем же языком, что "Отелло", "Фальстаф" и другие оперы. Это
та же самая музыкальная идиома - и я сделал сценическую версию Реквиема
Верди.
"Мессия" Генделя для меня - идея священного представления. Я сказал в
самом начале разговора, что для меня музыка, партитура - самое главное,
духовная экзистенция, театр - физическая экзистенция, и я ищу тела для
музыки. Реквием Верди, "Мессия" Генделя, Stabat mater Шимановского, Vespro
della beata virgine Монтеверди, "Голгофа" Франкмартена - это все для меня
произведения, которые я могу сделать как визуальную музыку, музыку,
которую можно увидеть. Не делать иллюстрацию к музыке, но через музыку
смотреть и видеть план метафизический. Или мистический. Я хочу поставить
такие произведения, как, например, "История Рождества" и "История
Воскресения" Генриха Шютца. 400 лет тому назад люди думали об этом,
размышляли о самых главных вопросах священной истории. Это как иконопись.
В таком смысле мы будем ставить эту религиозную музыку - это не режиссура,
это писание спектакля.
- А вы не хотите поставить "Представление о душе и теле" Кавальери?
- Да, хочу, у нас это в плане. Это самый великолепный пример.
- В последнее время часто высказывается такая мысль, что наряду с
аутентизмом музыкальным надо стремиться к аутентизму сценическому, то есть
пытаться возродить исторический стиль постановок. В какой мере вы
разделяете эти мысли?
- Не знаю, это вопрос теоретический. Думаю, что все ответы я могу
найти в себе, если поставлю настоящий вопрос, который действительно важен:
не что или как сделать, но что это значит, что это значит в глубоком
смысле. Например, если я работаю над "Мессией" Генделя, для меня главное,
что значит, что Бог на кресте, и это любовь. Кто сделал это, что Бог,
человек распят на кресте, говорит: "Мать, это сын твой. Сыну, то мать твоя".
Какая это любовь, и кто сделал это - это я сделал, ты сделал, он сделал.
Ну, во-первых, я сделал это. Я вбил эти гвозди в тело Бога. Значит, я
сужу Бога. Я, человек, осудил Бога. И такие вопросы для меня находятся в
музыке. Когда я на словах пытаюсь объяснить, что такое для меня музыка,
например, второй части "Мессии" Генделя, Пассионов, это уже не то. Но себе
я могу эти вопросы ставить без слов, через музыку, и спектакль - мой ответ.
И это все. И если для меня это самое важное, если я не могу жить без
ответа на такие вопросы, то я думаю, что я не один такой, что если для
меня это важно, это важно и для других. Мы не настолько разные, и эти
вопросы по-разному, но важны для каждого. Я думаю, что режиссура - это не
профессия, это дорога. Это дорога к Богу, и поэтому я ставлю оперы.
Беседовал Дмитрий
Морозов
("Окно в Европу" – приложение к газете "Мариинский театр",
№ 1-2, 2001 г.)
|