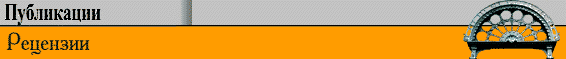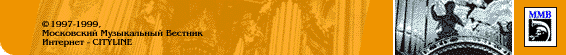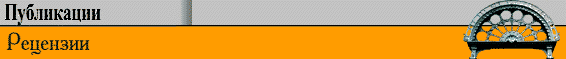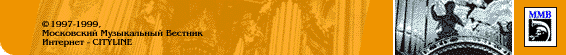|
Уйди, краса
бескровная!
“Русалка”
ДВОРЖАКА в Екатеринбургской Опере
Не
успел Георгий Исаакян сделать хороший
спектакль “Мазепа” в Екатеринбургском
театре оперы и балета, как тут же
оказался постановщиком “Русалки”
Дворжака. И вот редкая в России опера
появляется в столице Урала к столетию
своего рождения (мировая премьера в
Праге в 1901-м) у сложившейся
постановочной команды с Евгением
Бражником и Станиславом Фесько.
Как
всякого модного российского
авангардиста, Исаакяна не смущает
проблема аутентизма, который из
западного эстетства на глазах сделался
нормой для инструменталистов, посягая
уже и на музыкальный театр. Стандарты
прочтения здесь меняются: еще недавно
верность тексту (не только ноты, но
драматургия и ремарки) называлась
анахронизмом, признаком творческой
слабости, и считалось хорошим тоном
навесить на безответного автора
концепцию покруче, одев сцену в далеком
от подлинника стиле.
Мода
на замену старых смыслов новыми
заканчивается: наступает эпоха, где
основная тенденция — не уход, а
приближение к оригиналу, где особый шик
— восстановление культовых сценических
версий, оставивших след в истории. А
режиссерский театр, уступая лидерство
музыкально-аутентичному театру, займет
место эксперимента рядом с мейнстримом.
Благодаря
Валерию Гергиеву, Мариинский театр за
1990-е выполнил норму за всю Россию в обоих
направлениях. С одной стороны, он
возродил вкус к театральным раскопкам,
увенчав ряд постановок (от “Руслана” в
декорациях Коровина до “Аиды” в
декорациях Шильдкнехта) историческим
подвигом — “Спящей красавицей”
Всеволожского — Петипа, которая может
стать программным актом времени,
возродив пассеизм “Мира искусства”. С
другой, приучил к модернистскому
оперному дизайну, взятому из новейшего
визуального контекста: от “Игрока” и “Войны
и мира” 1991-го до “Семена Котко” и “Пиковой
дамы” 1999-го — двух вершин театрального
авангардизма, упирающихся в его потолок:
в “Котко” фантазия постановщиков
доходит до эксцентрики и произвола, а “Пиковая”
точно указывает новую доминанту в опере:
режиссер уступает сцену художнику.
Россия,
запоздало встающая на путь авангардно-продвинутого
Запада, может остановиться, чтобы
внимательно посмотреть на свое прошлое
и найти там немало хорошего. Главное,
понять, что реализм — уже не плохой тон и
признак отсталости, а нетленный образ
культуры и равноправный сценический
стиль, ничуть не хуже условного. Что при
возрождении культа музыки и ее носителя
певца фантазия постановщиков должна
корректироваться хорошим правилом —
грамотным и точным чтением оригинала.
Особенно это актуально для
нерепертуарных названий: редкое явление
перед публикой обязывает сначала дать
оперу поближе к оригинальному виду.
Но
“Русалка” к своей екатеринбургской
премьере пошла другим путем. Не внятное
чтение текста, не музыкальная концепция
вдохновляли постановщиков, а большая
культурная задача: воссоздание
атмосферы начала века, связанной почему-то
исключительно с символизмом. Их не
остановило, что “Русалка” Дворжака еще
не дозрела до символизма, и ее музыка —
пример сохранения здоровой жизни в
нарастающих волнах мирового декаданса.
Видимо, сделать спектакль в
соответствии со стилем оригинала —
чересчур скромно для творцов эпохи
рубежа, глядящих мимо “Русалки” на
братские, но далекие соседские
территории. Потому им открылась не Чехия
со всей свежестью незамутненного
романтизма, а сумрачная Россия со своей
способностью превращать декадентскую
смурь Европы, вроде Уайльда да
Метерлинка, в собственные болячки.
Посмотрев
на простую и бесконфликтную оперу
Дворжака через “Синюю птицу”, раннего
Таирова и др., постановщики решили
реставраторскую задачу, введя в
современный обиход вечно манящий пласт
русской культуры, называемый
символистским театром. Игра в него
интересна знатокам, если даже они
признают, что ни объект (Дворжак), ни
повод (100-летие создания оперы) не
соответствуют цели: славянски-спокойная
и описательно-бесконфликтная музыка не
тянет к созданию сумрачного
философского полотна любого формата.
В
либретто Ярослава Квапила чешские
источники (сказки Божены Немцовой,
баллады Карела Эрбена, народные легенды)
сплелись с Андерсеном, а печальная
история любви — с великой природой как
главным персонажем. Превращение русалки
в девушку напоминает Римского-Корсакова
(1-й акт — почти Пролог “Снегурочки”,
где функции Деда-Мороза и Весны-Красны
выполняют Водяной и Ежибаба), а
финальный Liebestod — известные
романтические исходы (“Русалка”
Даргомыжского, “Тристан и Изольда”, “Жизель”).
Выпив смертельный поцелуй, Принц
погибал, Русалка уходила в озерные глуби,
а всех оставшихся жить музыка
растворяла в вечной природе — так в
пантеизм, идущий от Вагнера (“Зигфрид-идиллия”)
и Римского-Корсакова (“Похвала пустыне”)
к симфониям Малера и Шёнбергу (“Песни
Гурре”), вплетался свежий славянский
голос.
Если
этот голос и слышен в Екатеринбурге, то
только в оркестровой яме. Полагая, что
публика влюблена в партитуру, как и сам
дирижер, Евгений Бражник не торопится,
наслаждаясь звуками на клеточном уровне.
Замедленные темпы лишают песенную и
монотонно-красивую музыку внутреннего
волнения, делая свое роковое дело:
временами действие замирает, и
укачанного ласковыми озерными волнами
слушателя посещает иллюзия тихого
исчезновения материи. Особенно — в
русалочьих хорах: хороший, как всегда,
хор Веры Давыдовой на заднем плане при
затаенной энергетике оркестра спереди
мерцает звуковым стоп-кадром, что
чревато для такой музыки полной потерей
дыхания и пульса. Временами эта сладкая
греза в три акта нарушается грозовым
шквалом: истомленный лирикой и
неидеальный оркестр (шероховатости меди,
пестрый и слегка несобранный звук
скрипок) мощно взрывается в затяжных,
почти вагнеровских тутти — внезапных и
загадочных в музыке, чей жанр — “лирическая
сказка”. Однако на сцене вагнеровских
голосов нет, и у хороших исполнителей
лирических партий (Наталья Карлова —
Русалочка, Виталий Петров — Принц)
ключевые признания погибают, утопая в
фортиссимо. Кроме одного: “Уйди, краса
бескровная!” — после такого откровения
Принц идет от нежной красавицы к
вульгарной Чужеземной княжне.
В
Екатеринбурге спектакль назван “Русалочкой”
(подальше от Даргомыжского, поближе к
Андерсену) и насыщен цитатами: героиня —
в позе известной скульптуры в гавани
Копенгагена, три девы, потомки дочерей
Рейна, летают на качелях, напоминая —
тем, кто знает — про валькирий в лифтах-пеналах
последнего байройтского “Кольца”,
принц в восточном костюме — почти
Тамино. Финальная композиция — “Смерть
Изольды” (Русалочка поет, стоя над
бездыханным телом Принца). Кроме того,
герои распластываются на черных
зеркалах, вглядываясь в отражения, почти
как во всех советских фильмах-сказках, и
падают плашмя, словно Жизель в первом
акте.
Эффектные
костюмы Елены Куликовой бьют в глаз
фактурой и крупным форматом: синие губы
и лысая голова брошенной девы, стальные
персты и длинный голый череп великанши-Ежибабы
(Марина Демидова), огненные космы и
красные щупальцы принцессы-разлучницы (Надежда
Рыжкова) — при просторной сцене такого
уже достаточно для хорошего зрелища. Но
сценограф Фесько, избегая простоты,
задушил его, как мог: пересолив с ужасами
(извивающиеся змеи и скрученные
веревками тела, пальмы и коряги) и
напустив мраку, он добился паралича
сцены, обнеся ее, словно частоколом с
черепами, черными зеркалами (в 3-м акте
разбиты) — бедняги-земноводные только
высовывались из люков и топтали
расколовшую озеро трещину. И пока
красивая музыка струилась водно-лесной
поэзией, каждый сантиметр пафосно
вопившей о трагедии сцены твердил о
пресловутой пластической
недостаточности России, которая даже
абстрактно-условную лексику использует
с громоздкой многословностью, превращая
театр в дотошную книжную иллюстрацию.
В
результате Екатеринбург получил
спектакль, никому конкретно не
адресованный: для детей и новой
буржуазии он вял и умозрителен, для
музыкантов — далек от Дворжака, для
основной публики — лишен необходимой
оперной чувственности. Зато он
интересен истории театра как элитарный
культурологический эксперимент.
Отдадим должное выбору Екатеринбурга:
не всякая мировая сцена может позволить
себе такое.
Марина
Борисова
© 2000,
газета "Мариинский
театр"
|