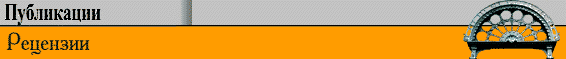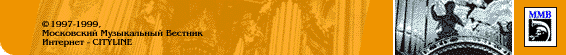Гастроли
Мариинского театра на сцене Большого
В отличие от
Петербурга, штурмовавшего московского "Ивана
Сусанина", Москва не проявила никакого
ажиотажа: в субботу и воскресенье в Большом
театре, где шла опера о другом, правда, не столь
злосчастном путешественнике -- "Летучем
голландце" Вагнера -- в зале оставалось немало
свободных мест. Да, Москва никогда не была
цитаделью вагнеризма в той же степени, что
Петербург -- но те, кто игнорировал блестящее
начало гастролей Мариинского театра, потеряли
много.
Наша газета уже рецензировала
недавнюю премьеру "Голландца" в Петербурге;
а только что вышел новый номер ежемесячника
"Мариинский театр", полный потрясающих
исторических материалов о судьбе
"Моряка-скитальца" в России; есть и подборка
критических мнений, которые можно изложить по
следующим пунктам:
1. оркестр и Гергиев великолепны;
2. Николай Путилин в главной роли
великолепен тоже, но чересчур расфранчен и стоит
как тумба, поскольку режиссер не дал ему
действия;
3. Геннадий Беззубенков в роли моряка
Даланда надежен как скала и во всем хорош, хотя и
в меру;
4. Лариса Гоголевская поет Сенту
одухотворенно, но с натугой и несколько
по-русски;
5. Леонид Захожаев из специалиста по
маленьким ролям психопатологического плана
превратился в неплохого лирического тенора;
6. концептуальное решение режиссера
Чхеидзе и художника Цыпина туманно, романтизма в
нем нет и в помине, и в Байройте сделано круче;
7. если режиссерской выдумки на что и
хватило, то только не на хор -- так развести
массовку мог бы и студент;
8. пусть корабли не плавают по морю, а
ездят по потолку, но это не объясняет, почему
голландский корабль образуется путем деления
норвежского;
9. в некоторых действиях постановщиков
можно заподозрить мелкое антивагнерианство, а уж
вешать Сенту вместо того, чтобы ее топить -
форменное безобразие;
10. сто лет назад машинерия была лучше, и
г-н Вальц в Большом театре устраивал так, что
"при звуках бури и оркестра фантастическое
судно, с красным освещением парусов, быстро
выплывает на сцену, делает крутой поворот и
пристает к берегу; буря затихает, и экипаж в
глубоком молчании убирает паруса";
11. пусть того хотел и сам Вагнер, но
гнать три акта без антрактов жестоко: хочется
расправить члены и попить водички.
Оговорюсь, что выбрал
лишь те позиции, с которыми согласен или мирюсь,
хотя встречаются и противоположные (вплоть до
того, что Чхеидзе "тонко чувствует специфику
музыкального театра"). Один пункт можно теперь
с чистой совестью отмести: повешение Сенты имело
место только на премьерном спектакле, теперь же
она воздымает руки ввысь, что логично, раз уж
потолок заменяет море, и не портит аппетита. В
остальном же московская гастроль подтвердила
полное преимущество музыкальной части над
постановочной.
"Голландец" - не первое
свидетельства того, что слеп Мариинский театр на
режиссеров, доверчив и уповает на счастливую
случайность. Темур Чхеидзе, когда-то блестяще
поставивший "Игрока" - это холодная ручонка,
это Цезарь Кюи современности, умный и трезвый, но
не смогший понять, что вдохновенно
путешествующий трупак на мертвом, причем
исправном корабле - это тема петербургской
культуры, теперь безнадежно упущенная. С другой
стороны, постановка вовсе неплоха: нельзя не
оценить отменный дизайнерский стиль Цыпина, а,
главное то, что мизансцены Чхеидзе (какая скука
хвалить режиссера за одно это!) не мешают певцам
проявлять свое вокальное искусство.
По сравнению с премьерой, уровень
певцов, оркестра и хора стал даже еще выше.
Культурным событием могло бы стать уже одно то,
как звучал оркестр Мариинки из ямы Большого;
женский хор так подтянулся, что обогнал мужской;
из претензий к мужскому хору главной осталась
даже не та, что он глупо действует или порой поет
невпопад, а то, что его не набирается на два
экипажа. Путилин и Беззубенков подтвердили все
ожидания, а Гоголевская и Захожаев стали петь
заметно лучше. Но основная радость ждала тех, кто
выслушал оперу дважды.
Второй состав, чего никогда не бывает,
оказался ничем не хуже первого: возможно,
Владимир Ванеев излишне упоенно подавал свои
вокальные достоинства, но едва ли их оказалось
меньше, чем у Путилина. Беззубенкова сменил
совсем молодой бас Станислав Швец; то, что самая
ходульная партия поручена самому
экзальтированному певцу, казалось забавным, но
несомненно то, что он рассказывал о
корыстолюбивом Даланде какую-то свою историю, а
звучал более чем культурно. Немного портил дело
бедный влюбленный Эрик - Константин Плужников,
цинично-опытный актер с потасканным тембром.
Зато Сента!
Не будет преувеличением сказать, что в
воскресенье утром на сцене Большого произошло
открытие. Мы услышали молодую певицу с
роскошными данными - сильным, страстным тембром,
мощными верхами и красивым пиано; мы увидели
настоящую романтическую героиню - северную
девушку, прекрасную и взволнованную, словно
вышедшую из легенд. Еще удивительнее то, что для
Млады Худолей это было лишь второе в жизни
появление на оперной сцене. Москвичка,
выпускница ГИТИСа (!), занимавшаяся вокалом у
частных педагогов, она до этого лишь немного
выступала с концертными программами, а затем
была представлена Гергиеву и дебютировала сразу
в партии Саломеи. Не знаю, кто еще имел в своей
биографии столь впечатляющее начало: две роли -
два выступления, оба на первых сценах России.
Стоит ждать столь же ослепительного продолжения;
певице по голосу самые тяжелые партии
сопранового репертуара; пожелаю ей только одного
- рассчитывать силы.