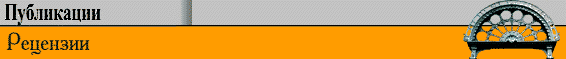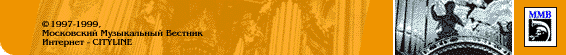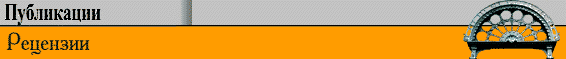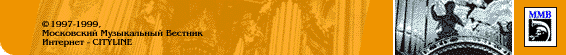|
Лоэнгрин, сын Парсифаля
От
редакции. Переводы некоторых
иностранных слов и выражений даются в
конце статьи.
Наблюдать,
как тридцатитрехлетний Вагнер впервые
приступает к истолкованию
главного сюжета своей жизни, и
занимательно, и забавно, и немного
грустно. Молодая ясность восторженного
взора, впервые узревшего в волнах
эфирных звуков откровение Любви (потом
он облечет это в слова: «Я слышу свет!
Изольда»), томление одинокого
избранника в «мире ненависти и распрей»,
«то упоительная боль, то блаженно-жуткая
радость» пробуждения (потом выльется в
волшебнейший по красоте звуко-мифо-образ
в сцене пробуждения валькирии), и вместе
с тем легкая смазанность целого, явно
неокончательного.
Тональность
спектакля – весенняя зелень, лазурь,
цветение, растительная готика побегов.
Утренний сон. Этот образ, возможно,
навеян самым точным авторским
истолкованием смысла оперы в программе
к концертному исполнению увертюры (1853): «В
бесконечно нежных тонких линиях
вырисовываются – постепенно все
явственнее – очертания сонма ангелов,
свершающих священнодействие,
сопровождающих святой сосуд со светлых
высот на землю. Волшебное видение
становится все более отчетливым и
зримым», пробуждает в человеческих
душах ростки любви, животворя их
возрастание и «страстное стремление
отдать себя, раствориться до конца в
этом чувстве... И наконец, сама святая
чаша чудесным образом открывается
взорам достойных». Нисхождение
небесного огня как главное действие
оперы, вбирающее все остальные, явилось
композитору, когда работа была давно
завершена. Творец оглядывается и видит
простую форму, образ, интуитивно
найденный, но только теперь
проступающий сквозь подробности
сложного мифологического сооружения.
Это, собственно, зерно мифа о Грале,
понимаемом как место ощутимого
проникновения небесных сил в границы
земного существования.
Общая
символическая схема «Лоэнгрина» – это
концентрация духовного импульса,
инволюция, однако ее значение остается
скрытым историческими одеждами саги.
Только в музыке – в композиции в целом и
особенно в Интродукции (написанной в
последнюю очередь) этот символ
предстает явственным предсозерцанием
своих будущих воплощений.
Парадокс
«Лоэнгрина» состоит в том, что он
задуман и в основном написан как
романтическая опера. Вместе с тем в нем
зарождается интенция, направляющая
Вагнера к пониманию театрального
представления как сакрального акта.
Чудо – главное его условие – явлено
здесь самим явлением Лоэнгрина, его
проявлением из сна, превращением в явь.
Теплом и свечением чуда явления
проникнута вся партитура и, наверное,
именно это ее свойство делает оперу
столь притягательной...
«Лоэнгрин»
– самая «популярная», любимая,
репертуарная, самая сложная из простых и
простая из сложных опер Вагнера,
перекресток оперы и «музыкальной драмы»,
«шедевр «золотой середины», Впрочем,
последнее определение несколько обидно,
потому что золотая середина внятно
ассоциируется с посредственностью – и
произведения, и тех, кто им наслаждается.
«Лоэнгрин» действительно кажется
простым и даже простоватым в сравнении с
мифической утонченной ядовитостью «Тристана»
и мистичностью «Парсифаля». Это
впечатление обусловлено жанром,
способом обращения с сагой и тем
обстоятельством, что до определенного
момента художник действовал по инерции:
приглянулся сюжет, обладающий ощутимой
музыкальной потенциальностью,
придерживаясь традиционного 4-5-стопного
ямба, сочинили либретто, почти не меняя
источник (за исключением нескольких лет
счастливой семейной жизни,
спрессованных в одно объяснение на
брачном ложе). Либретто использует
стандартные для сцены своего времени
живые картины: суд и Божий суд-поединок,
свадебное величание и пр. добро и зло в
согласии с эстетикой романтической
драмы представлены в утрированном,
почти лубочном обличии. «Мы видим силы
зла в коричневом трико и ангела добра в
невыразимой пачке...».
До
этого пункта все выглядит гладко, но
затем появляются подводные рифы в самом
сюжете. В русле действующей эстетики они
не могут быть ни преодолены, ни
устранены. Оттого-то «Лоэнгрин» –
произведение с тайной, которую Вагнер не
объяснил, потому что сам ее пока не
понимает. Он еще не сделался «отцом
структурного анализа мифов», не начал
годами ломать голову над смыслом
главных мотивов мифологического
действия. Единственное, что предстало
ему с полной отчетливостью – это образ
пламенеющего нисхождения,
зафиксированный в комментарии в
Интродукции.
Первые
слушатели чтений либретто сразу же
почувствовали, что логика драмы не
вполне выстроена, а финал неубедителен,
поскольку неканоничен. Счастливому
соединению рыцаря с Эльзой нет
настоящих препятствий, кроме ее
сомнения, вполне простительного с
христианской точки зрения. Вагнеру
замечено, что «было бы лучше, если бы
Лоэнгрин, под впечатлением измены Эльзы...
погибал на наших глазах». А так –
свадьба без брака, разрыв без физической
смерти – все немотивированно,
превращение же лебедя в герцога –
вообще кунштюк из сказочной феерии.
Маэстро был столь взволнован критикой,
что начал всерьез размышлять, как ему
удовлетворить своих оппонентов. Может
быть, следствием этих размышлений
становится неопределенная ремарка,
добавленная в финале: «Elsa
gleitet
lagsam
entseelt»
– «Бездыханная Эльза медленно
соскальзывает». «Entseelt»
– редкий эпитет, снабжаемый в словарях
пометой «поэт.». Едва ли в сценической
ситуации он может быть Изображен как
отделение души от тела. Скорее его
следует понимать метафорически,
привлекая на помощь библейскую
ассоциацию. Помните? «Души во мне не
стало, когда он ушел». Впрочем, проблему
убедительного разрешения конфликта эта
ремарка все равно не решает, поскольку
действует за пределами музыкального
целого. Свершение судьбы Эльзы и
изображение «истекания души» в Liebestod
в него явно не входят.
Кровожадные
требования читателей породили попытку
объяснить миф другим мифом. Вагнер
указывает на историю Зевса и Семелы,
Шюрэ припомнил еще рассказ Апулея об
Амуре и Психее.
Аналогии
эти на самом деле поверхностны и
касаются лишь одного сюжетного звена –
запретного узнавания. А если, как
настаивал Майстер, речь идет о
гибельности брака смертной с
бессмертным, то собственно брака в опере
нет, он так и остался мечтой. Причуды же
черного колдовства, – отрежь жениху
пальчик, – злонамеренное превращение
отпрысков благородных властителей в
животных и вовсе относятся к другой
области архетипов, вызывая в памяти
сказки о царевиче-волке, сестрице
Аленушке и братце Иванушке и другие
сюжеты счастливого освобождения от чар.
Миф о Лоэнгрине – хранителе Граля
предстает «в оболочке» волшебной сказки
(в том смысле, в котором мы говорим: «Word
в оболочке Windows»),
в свою очередь адаптированной к
условиям романтической драмы. В отличие
от «музыкальных драм», последовательно
проявляющих мифологические структуры в
действии, «Лоэнгрин» в буквальном
смысле воплотил свой миф в образе
протагониста. Углубляясь в его смысл, мы
обнаруживаем несущественность видимой
слабости драматических мотивировок.
Вагнер руководствовался «совершенно
верным инстинктом»; еще в процессе
отделки либретто «вся нелепость
колебаний» определилась для него «с
полной ясностью». «Лоэнгрин прав», –
лаконически заявляет он Листу, не
объясняя, почему.
Признаюсь,
загадка «Лоэнгрина» не занимала меня,
пока я не решила написать эту статью.
Собственно, никакой загадки я в нем и не
видела. Опера казалась чем-то очень hauslich
und
hubsch,
приятно греющим, но не провоцирующим на
озарения или длительные напряженные
раздумья. Спектакль в целом понравился,
но не вызвал такого сильного
переживания, как премьера «Парсифаля».
Очень стильным, красивым и точным
показалось новое оформление, все роли
были «в порядке», единственным
открытием стала трагическая ипостась
Тельрамунда, о которой обычно забывают.
А в общем – знакомая с детства любимая
сказка в постановке более декоративной,
нежели претендующей на откровение новых
смыслов... И о чем здесь писать?
Перебор
испытанных способов активизации
научной фантазии привел к самому
простому и безотказному. И вот, играя
знаменитую модуляцию из сна Эльзы, я
вдруг почти физически ощутила щелчок
коммутации. Знания из области
оккультной и алхимической мифологии,
юнгианские штудии Misterium
coniunctionis
', различные исторические версии
происхождения легенды о Грале, оговорки
и скупые разъяснения Майстера по поводу
смысла «Парсифаля» – все вдруг чудесным
образом слилось и проявилось в этом
восхитительном последовании трезвучий: As
– Fes
– Ces
= H
– h
(cis)
– K6/4
D-dur
из полноты глубокой бемольной синевы к
лучезарному сиянию Ре через
последовательное понижение терцовых
тонеов.
Нисхождение
небесного пламени, воплощение грезы,
свечение, лучение жизни – чувственной и
логической метафорой этих образов как
раз и является центральная музыкальная
тема оперы. Она же – воплощение
структурного медиатора дольних и горних
сил, каковым здесь служит (в смысле
рыцарского служения) сам Лоэнгрин,
человеческая и одновременно духовная,
сверхсущностная ипостась Граля.
«Священный
сосуд», «величайшая святыня»
упоминаются в опере лишь однажды: в
заключительном рассказе Лоэнгрина. В
нем ничего не говорится о том, что это
чаша Причастия, об истинной, а не
пресуществленной крови Христа, зато
сообщается, что те, кто ей служат,
приобретают «uberirdiche
Macht»
и «heilige
Kraft»,
перед которыми отступает «Todes
Nacht»'.
Современная
оккультная версия мифа о Грале основана
на том, что легенда рассматривается как
мнемонический знак исторической тайны:
у Иисуса были потомки, дети Марии
Магдалины, они спаслись в Европе и стали
предками Меровингов, чьи благородные
отпрыски завоевали Иерусалим и
воцарились в нем, а затем претерпели ряд
поражений, были гонимы, скрывались,
имели свою конгрегацию и
отождествлялись с различными тайными
учениями и ересями. Соблазнительность
подобного истолкования сохраняемой
Гралем «истинной крови» не должна
отпугивать беспристрастного аналитика
или, напротив, такого страстного
любителя преследования самых
недостижимых целей, каким был Вагнер.
Что-то об «исторической» версии мифа
стало ему известно. Во всяком случае в «Религии
и Искусстве», объясняя сущность
героизма, он утверждает, что «Христос
перелил свою кровь в сосуды своих героев».
Это не противоречит структуралистскому
воззрению на мифологического героя как
функциональный медиационный мост,
связующий сферы божественного и
человеческого, смертного существования
и бессмертного бытия. Сюжетно это
выражается в том, что герой рождается от
брака смертного и бессмертного существ
и является носителем некоторых
божественных свойств: непобедимости,
неуязвимости. С точки зрения
аналитической психологии герой – это
воплощение Эго, которое в определенном
смысле шире и универсальнее, все-
человечнее обыденных изъявлений
личности. Заметим, что все перечисленные
толкования героя – человека и функции –
сосредоточены на его переходной,
связующей роли, выводящей за рамки allzumenschlichkeit.
«Человек есть мост, а не цель», – так
говорил Заратустра.
Лоэнтрин
причислен к служителям Граля сагой о
рыцаре с лебедем. В опере он называет
себя сыном Парсифаля, из чего следует,
что Вагнер пока нимало не заботился о
логике мифа. Вопрос о том, откуда мог
взяться сын в аскетическом мужском
братстве, его не волновал. Еще менее он
был занят проблемой уместности
публичного разглашения тайны этого
братства, Эльза наказана как
нарушительница запрета, попросившая
назвать имя. Но никто не собирается
карать рыцаря за его столь пространное
принародное объяснение. Оно обусловлено
не столько сюжетом, сколько
необходимостью подчеркнуть сущность
героя как мифологического
сверхъестественного существа. И если «сын
Парсифаля» – явная оговорка,
свидетельствующая о том, что мифология
Граля – романная, историческая,
оккультная или иная – Вагнеру еще почти
неизвестна, то излучаемая рыцарем
божественная энергия любви, восприняты
от Граля и ежегодно пополняемая
нисхождением голубя к чаше Wunderkraft
' свидетельствуют о глубине
интуитивного понимания главного мотива,
осознание которого снимает все сюжетные
противоречия. Лоэнгрин, конечно, не сын и
не муж в мирском человеческом смысле. Он
сын Граля, телесное воплощение таинства
Причастия, сосуд Божьей Крови, он муж-защитник,
оплот против пришельцев из таинственных
«пустынь Востока», разрешитель оков и
чар, устроитель блага. В его функции
никак не может входить реализация
сказочного «жить-поживать да добра
наживать», потому что он не хозяин, а
хранитель невинности. Миф таким образом
вступает в противоречие и с законами
сказки, и с романтическим штампом. Герой
является и уходит. Структура
мифологического действия подобна
симметрии падающего и отраженного лучей.
Если попробовать представить себе
гипотетический образ оперы как целого,
то им будет светлый сияющий образ ее
героя-рыцаря. Интересно, что Вагнер,
впоследствии сталь склонный к символико-мифологическому
истолкованию имен, не обратил внимания
на этимологию прозвания своего
протагониста. «Lohen»
значит «пылать, полыхать ярким пламенем»,
второй корень с чередующейся гласной – grin,
gren,
grun
– явно напоминает о зелени весны. Он
более «современен» как самостоятельный
элемент романтической мифологии, но и
мистичен, так как открывает путь
ассоциациям с алхимической символикой
цветов, магией камней, наконец, с
оккультным толкованием Запада и его
продолжения – зеленой Гренландии,
знаменующей родину предков –
таинственную Гиперборею.
Неотмирность рыцаря Граля смягчается
его атрибутами (любовь, защита, пламя,
зелень), а также мотивом его чудесного
появления. Странствие или хождение по
водам, рождение из воды, младенец в челне,
отпущенный на волю волн – все эти образы
рождают множество мифологических
ассоциаций, сконцентрированных
двумирной, двуприродной сущностью
Лоэнгрина. Вода – стихия рождения жизни,
ее разнообразных видов. Послушно
принимающая любую форму, она наделена
специальной функцией переходности,
катализации превращений. Без ее участия
семя не превратится в колос, а зерно в
хлеб. Воды охраняют в тайне созревающий
человеческий плод и наливают соком
плоды земные. Телесная соматика и
абстрактная роль силы смешаны в этой
стихии, зеркально отражающей свет. Она
лепит и взращивает героя эльзиного сна и
одновременно в буквальном смысле
показывает, что он лишь отражение,
отблеск неизмеримо более высокой,
непостижимой сущности, образ иного
бытия.
Лебедь,
влекущий ладью Лоэнгрина, также
является мифологическим олицетворением
перехода, мостика между мирами. В
многочисленных сагах бессмертные девы,
являясь на землю, сбрасывают лебяжье
оперение. Если его украсть и спрятать,
можно заставить апсару некоторое время
жить человеческой жизнью, но рано или
поздно она улетит в свои пределы. Песнь
умирающего лебедя лебедь – страж
подземного мира, – это образы из другой,
сумеречной зоны лебединой семантики,
связанные с мыслями о физической смерти,
вечном сне, покое. Из этого следует, что
Лебедь – посредник не только между
земным и небесным, но также между
верхним и нижним, подземным миром. В нем
оживает давно оплаканный герцог
Брабантский, он же – дополнительная
эмблема исхода, его движитель и
одновременно геральдический зверь на
рыцарском щите.
Симметрия
оперы подчеркнута зеркально-симметричными
рассказами Эльзы и Лоэнгрина. Маэстро
Гергиев разнообразными средствами
выделяет их из общего течения музыки как
островки инобытия, медиумической
трансляции запредельного. Особенно
убедительно это получилось в первом
акте: торможение темпа и деликатная
акварельность звучания производят
дивное впечатление неземного света.
Отдавая
должное всем исполнительским и
актерским удачам постановки, не могу не
заметить, что нарисованный мною образ
весьма расходится с тем, который был
явлен на сцене. В силу того, что жанр
романтической оперы компромиссен по
отношению к мифу, намеченному, но не
прорисованному в действии, роль
Лоэнгрина по-настоящему сложна для
понимания и для сценической
интерпретации. Геста Винберг был
профессионален, но его герой слишком
приземлен, лишен даже проблесков
священного огня. Может быть, мои заметки
обратят внимание тех, кто будет петь в
следующих спектаклях. Человек-чудо,
теноровая партия, совершенно выходящая
из границ тривиального амплуа, артист,
осуществляющий себя в подлинности
излучаемого дара, – таковы максимальные
ставки этой роли, таящей тысячи нюансов
и возможностей. Подумаем о Лоэнгрине как
сосуде божественной благодати,
магическом камне трансмутации,
воплощенном Причастии.
У
Томаса Мэлори так повествуется о
явлении Святого Граля сэру Галахаду: «услышали
они, как распахнулись двери дальнего
покоя, и внутри они увидели ангелов. Два
ангела держали восковые свечи, а третий
платок, четвертый же – копье, с которого
чудесным образом бежала кровь, и капли
крови падали в шкатулку, что держал он в
другой руке. Вот поставили они свечи на
престол, третий ангел опустил платок
свой на священную чашу, а четвертый
установил стоймя священное копье на
крышке чаши. И тогда епископ приступил к
освящению даров, и поднял он облатку,
наподобие хлебца. В тот же миг явилась
фигура наподобие отрока с лицом красным
и светлым, как огонь, и она вошла в тот
хлебец, так что все видели, что хлебец
тот из плоти человеческой». Затем «рыцари
сели к столу в великом страхе и
прочитали молитвы. И поглядели они и
увидели, что выходит к ним из священного
сосуда фигура человека со всеми знаками
страстей Иисуса Христа, открытыми и
кровоточащими, и говорит:
–
Мои рыцари и слуги и верные мои дети, от
жизни смертной пришедшие к духовной
жизни. Я не буду более скрываться от
ваших взоров и вы увидите ныне мое
тайное и сокровенное. Примите же и
вкусите пищи, которой вы алчете.
И
поднял он сам священную чашу и
приблизился к сэру Галахаду. И тот
преклонил колена и принял причастие и
нашел его столь сладким, что никакими
словами нельзя передать»
Примечания:
hauslich
und
hubsch
– милым и домашним.
«Misterium
coniunctionis»
– название книги К.Г.Юнга, посвященной
толкованию алхимии методами
аналитической психологии.
«uberirdiche
Macht»
и «heilige
Kraft»,
«Todes
Nacht»–
неземная мощь; божественная сила; мрак
смерти.
allzumenschlichkeit
– слишком человеческое (Ницше).
Wunderkraft
– чудесная сила.
Анна
Порфирьева
©
1999, газета "Мариинский
театр"
|