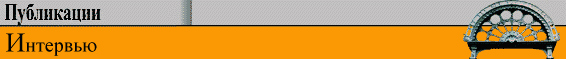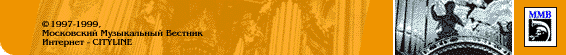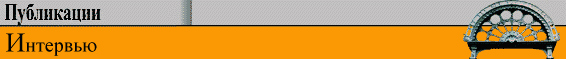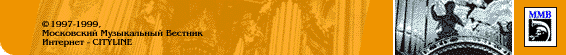| |
«Чтобы
человек в зале не скучал»
И. Р. Андрей Сергеевич,
помнится, начиная репетиции "Войны и
мира", вы говорили, что не раскрываете
свою режиссерскую концепцию до
окончания работы, до премьеры. Нынче же,
когда спектакль уже состоялся, вы вправе
сказать столь же обезоруживающе, что
теперь в этом нет необходимости -
концепция "налицо", имеющий уши да
слышит, имеющий глаза да видит...
А. К. Именно так!
И. Р. И все же несколько
обобщающих слов вы не хотели бы сказать?
А. К. А не могли бы их сказать
вы?
И. Р. Но интервью, между
прочим, ваше.
А. К. Нет, я не хочу, это
бессмысленно. Когда Толстого спросили,
не мог бы он кратко в нескольких словах
рассказать историю "Войны и мира",
он ответил, рассердившись, что если бы
мог кратко рассказать, то написал бы
краткую историю. Существует концепция
внутренняя, она не транспонируется в
слова, она транслируется в чувственную
область, в область чувств
индивидуальных у каждого, и, что бы вы
мне ни сказали, вы будете правы.
И. Р. То есть вы разделяете
весьма распространенное мнение: сколько
в зале зрителей, слушателей - столько и
концепций, столько Пятых симфоний
Бетховена, столько "Дон Жуанов"... Я
уважаю такую точку зрения, но, заметьте,
она дает мне свободу в изложении вашей
концепции...
А. К. Согласен.
И. Р. И вы не потребуете
вашей визы на моей интерпретации?
А. К. Разумеется.
И. Р. Договорились. Но начать
придется с чужих "интерпретаций". В
последнее время на Прокофьева
ополчились, прямо как в ждановские
времена, но "с другого полюса". Если
тогда его шельмовали "модернистом",
обвиняли в неуважении к русскому народу,
к родному фольклору (это Прокофьева-то!!)
и т.д. и т.п., то сейчас композитора
попрекают "сталинщиной" (?!).
Посмотрите, что напечатал недавно один
московский журнал: "Вернувшись в СССР,
композитор предал свой блестящий стиль,
вынужденно упростился и деградировал.
По сути "Семен Котко" для Сергея
Прокофьева знаменовал начало
творческого конца" ("Эксперт", N24,
28 июня 1999). И подобной "экспертизе"
был подвергнут автор "Ромео" и "Золушки",
Пятой и Шестой симфоний, "Дуэньи" и
"Войны и мира", наконец!
А. К. Какая разница? Вы правы,
это на самом деле одно и то же! Та же
ждановщина навыворот! Пусть говорят что
угодно - это не имеет никакого отношения
к тому, что делал Прокофьев.
И. Р. Автор одной из первых
рецензий в сегодняшнем "Вечернем
Петербурге" (14 марта, 2000) пишет о
сценах "войны" в опере - "парадных
и глянцево-холодноватых - музыкой сильно
напоминающих сталинскую массовую песню".
А петербургский "Пульс" в
подзаголовке к интервью с вами ранее
обещал, что "сын автора советского
гимна очистит от коммунистической
шелухи "Войну и мир" ("Пульс",
февраль 2000)...
А. К. Какой вздор, ничего
подобного я не говорил! Какой бред!
И. Р. Значит, ваши купюры
преследовали единственную цель: сделать
оперу более динамичной, более
компактной, более доступной широкому
зрителю-слушателю? А не были вызваны тем,
что часть музыки Прокофьева вы считаете
хуже остальной...
А. К. Нет, я не согласен. Я
действительно считаю, что часть музыки
Прокофьева - хуже, и он сам так считал.
И. Р. Это, положим, спорно! В
опере, действительно, немало повторов-реприз
хоровых эпизодов, которые вы купировали.
Хотя подчас к такого рода репризам
взывает музыкальная форма.
А. К. Часто
репризы Прокофьев вставлял не потому,
что того требовала музыкальная логика, а
потому, что от него требовали как можно
больше внимания уделить народным сценам.
Прокофьев - гений, он просто не мог
писать плохо, но вынужден был писать
дежурные вещи, отвечая, так сказать,
запросам. Ну он же сам, например,
предлагает в рекомендациях для будущих
постановщиков оперы: "Каратаева - вон!".
Не просто сократить, а "вон!" - это
ведь о чем-то да говорит...
И. Р. Андрей Сергеевич,
некоторые высказывания,
растиражированные от вашего имени в
многочисленных интервью, которые вы
давали в последние недели, нуждаются
если не в "расшифровке", то, по
крайней мере, в коррекции - ну вот,
например, о том, что "опера -
примитивное искусство"... или "вообще
опера довольно скучна; разве что
меломаны слушают ее, затаив дыхание, и
поют про себя все партии. Музыка
укачивает".
А. К. Нет, я так не думаю,
конечно, нельзя сказанное понимать
буквально, я просто полемически
заострял свои размышления. Но опера - это...
ложь! Великая ложь.
И. Р. Вы добавляете при этом,
что в опере условностей едва ли не
больше, чем в любых других видах
искусства. Но, если меру условности
принять, то и в балете, и в опере исчезает
ложь. Вы же не исповедуете толстовский
взгляд на оперу?
А. К. Нет, я только хочу
сказать, что сами по себе условности -
"ложь" - но чувства, которые эти
условности вызывают, должны быть
правдивы. В искусстве самое главное не
правда жизни, а правда чувств.
И. Р. Кстати о правде: всякая
попытка "очеловечить" массовые
сцены в "Войне и мире", привести их в
равновесие с камерными сценами, -
заставляет вспомнить слова из
предсмертного бреда Андрея Болконского:
"Надо держать равновесие, чтоб оно не
завалилось". Не правда ли, равновесие
между гениальными камерными сценами
первой части и эпосом во второй части
очень трудно выдержать в рамках одного
спектакля?
А. К. Нет,
я этого не чувствовал, я не чувствовал
необходимости об этом думать, я работал,
делал свое дело, как пел! Получилось как
надо, а почему - не знаю, о равновесии я
вовсе не думал. Я думал о зрителе:
волнует - не волнует? Еcли не волнует -
значит неправда.
И. Р. Но заметна все же
диспропорция между массивным вторым
актом и камерным утонченно-психологическим
первым...
А. К. Но почему же
диспропорция, это контраст между миром и
войной, это противопоставление...
И. Р. Мне, кстати,
представляется весьма удачной идея
поместить хоровой эпиграф перед
картиной сожженной Москвы - дубина
народной войны, о которой говорит
Толстой, начала гвоздить французов не
сразу, а именно после Бородинского
сражения, при бегстве французов из
Москвы. На мой взгляд, и увертюра
справедливо в начале снята, как это в
свое время предложил Самосуд при первой
постановке в Малом оперном:
изумительное, лирически проникновенное
начало оперы - сцена в Отрадном - никак не
гармонирует с мощной увертюрой. Но,
может быть, стоит поискать другое место
для нее, например, перед второй, "военной"
частью оперы, с которой увертюра
тематически тесно связана?
А. К. Я думаю, это целиком в
компетенции Валерия Гергиева.
И. Р. А как вы отнеслись бы к
такой идее: что, если бы вся вторая часть
оперы в том, что касается массовых сцен,
была бы решена отчасти ораториально? То
есть хор, фронтально расположенный, как
при исполнении хорового эпиграфа,
комментировал бы действие на манер
древнегреческой трагедии, тем самым в
значительной степени "замещая"
громоздкие массовые эпизоды и, что самое
главное, освобождая сцену от неизбежной
(или почти неизбежной) "вампуки".
А. К. Это было бы совсем
другое решение, которое мне не
свойственно. А, во-вторых, существует же
такая вещь, как "слушание глазами".
Надо слушать глазами, эту оперу нельзя
слушать только ушами.
И. Р. Вы настойчиво
подчеркиваете своей режисурой
непрерывность действия, "перетекание" одной сцены в следующую за ней.
Хотя, с другой стороны, некоторые цезуры,
разграничивающие картины, тоже ведь
необходимы, как бы мы ни ссылались на
монтажную оперную драматургию
Прокофьева. Так почему бы не
воспользоваться преимуществами столь
стремительно разворачивающегося
действия и не восстановить исключенные
картины, раз все так компактно выходит?
Ведь, что ни говорите, а музыканты не
могут не сожалеть о вкусной жанровой
сцене у Долохова и о военном совете в
Филях. Сокращайте повторы и репризы в
хорах (но, замечу в скобках, не отдельные
жанровые сценки-диалоги, тоже попавшие
под нож!), а названные мною картины
верните!
А. К . А зачем? Какова цель
этой сцены в Филях? Чтобы появилась одна,
не свойственная этой опере ария, больше-то
арий в опере нет вовсе...
И. Р. На самом деле,
Прокофьев любой прозаический текст,
любую реплику превращает в золото
высшей мелодической пробы - это умение в
"Войне и мире" просто расцвело. Я
воспринимаю многие протяженные
фрагменты оперы как непрерывную цепь
ариозо...
А. К. Но в них нет такой "закругленности",
как в арии Кутузова. Понимаете, если эта
ария появляется здесь, то финал мертв.
Финал сейчас потому и получился таким
мощным, что нет "репетиции" финала,
нет музыкального предвосхищения его в
этой арии.
И. Р. Не знаю, не знаю...
Благодаря репризности музыкальной
ткани оперы, вы начинаете скоро "узнавать"
ее героев, вы запоминаете тему Андрея,
тему Наташи, вальс - они становятся
лейтмотивами, они ведут вас, они
скрепляют в единое целое далекие во
времени и пространстве картины. А потом,
как быть с радостью узнавания, которую
при этом испытывает слушатель?
А. К. Тема, о которой мы с
вами говорим, звучит два раза - этого
достаточно.
И. Р. Да, верно, она звучит
еще в предпоследней картине в устах
умирающего Андрея Болконского - звучит,
кстати, не так, как это задумал Прокофьев,
не как отголосок арии Кутузова,
всплывающий в меркнущем сознании Андрея:
у Кутузова-то вы арию отняли! Кутузову
остались только небольшие монологи-ариозо
"Бесподобный народ..." и "Железная
грудь...".
А. К. Но зато в финальном
хоре о Москве "Величавая в солнечных
лучах" - эта тема звучит коллосально!
Именно потому, что нет бесконечного ее
повторения.
Теперь о вашем предложении
вернуть купированные две картины. Если
их поставить, то каждая половина оперы -
и мирная, и военная - удлинятся более
полутора часов, и оперу придется делить
на три части, то есть делать два перерыва.
Этого, я считаю, допустить нельзя...
И. Р. Я понимаю, нарушится
предложенная вами двухчастная
композиция: мир и война.
А. К. Во-вторых, надо, чтобы
человек уходил из оперы с ощущением, что
он еще мог бы, пожалуй, чего-нибудь
послушать, а не с тяжелым чувством, что
больше он уже не может, не в силах. Опера
становится все более и более
демократичной. Сегодня в театр широкую
публику привлекают в первую очередь не
знаменитые оперные дивы, а постановки
Дзеффирелли, Стрелера, Шеро, постановки,
которые интересно смотреть широкому
зрителю, которые режиссерски
сногсшибательны. Потому что, в принципе,
сама-то опера сегодня умерла как жанр,
больше ее нету...
И. Р. Об этом мы все
наслышаны, оперу хоронили не один раз. Но
приходит гений, и опера оживает.
А. К. Например? Нет, вот
сейчас, скажите, последние 50 или 40 лет
возникла ли хоть одна великая опера?
И. Р. Может быть, вы и правы
по большому счету, хотя для такого
приговора нужна временная дистанция в
те же самые 40 - 50 лет. Простите за
банальность, большое видится на
расстояньи.
А. К. И все-таки, если бы была
у вас "на языке" хоть одна великая
опера, вы бы ее назвали. Так почему же ее
нет?
И. Р. ???
А. К. А я вам скажу почему.
Потому что все ушло в мюзикл. Мюзикл съел
оперу.
И. Р. Но мюзикл - в том смысле,
о котором у нас с вами речь - это ведь не
более чем адаптация великих шедевров к
массовой культуре. Шедевры превращаются
в хиты, в бестселлеры, в шлягеры, в клипы,
наконец.
А. К. Правильно. Но массовая
культура становится ведущей.
Следовательно...
И. Р. Андрей Сергеевич,
неужели вы не сожалеете об этом?
А. К. Есть
много вещей, о которых я могу сожалеть -
например, наступает зима, и я ничего не
могу с этим поделать, я должен ее
пережить и даже постараться попутно
извлечь удовольствие, катаясь на лыжах.
Когда я говорю, что опера мертва, это не
надо понимать буквально - она просто
перешла в другое качество. К примеру,
греческая скульптура - великое
искусство, но вы же не станете отрицать,
что ее, греческой, эллинской скульптуры,
больше не будет никогда. Это, правда, не
мешает нам идти в музей и получать
наслаждение от античной скульптуры, не
помешает и будущим поколениям. Я считаю,
что опера стала музеем, но это ни в коем
случае не означает, что она перестала
доставлять нам художественное,
эстетическое удовлетворение, что мы не
можем еще и еще раз ставить, а публика
соответственно еще и еще переживать
великие шедевры.
И. Р. Мы живем в эпоху
сплошной "мюзикализации".
Посмотрите на драматическую сцену, на
оперную, да и на балетную тоже. Есть
очень талантливые опыты, я думаю, их нет
нужды называть, они у всех на виду, на
слуху, но в целом эта тенденция
губительна для культуры, она приучает
потреблять - да, да, именно так, не
воспринимать, а потреблять культурные
ценности, завернутые в блестящую фольгу,
адаптированные к массовому сознанию.
А. К. "Мюзикализация" -
это нормальное желание приспособить
классику к поп-культуре, заработать
больше денег, грубо говоря. Ну, а опера...
дело в том, что опера - это искусство для
людей, у которых есть на это время, это
искусство очень богатых людей.
И. Р. Но вы же только что
говорили, что опера делается все более
демократичной. Чайковский в свое время
утверждал, что опера - это самый
демократический жанр, более внятный
широкой публике, чем симфоническая или
тем более камерная музыка.
А. К. Но для того, чтобы опера
была близка, доступна современным
поколениям, нужно, чтобы человек в зале
не скучал...
И. Р. Ну вот человек этот
скучает, скажем, на симфониях Бетховена,
Брамса или даже Моцарта, и появляются
всевозможные оркестры Поля Мориа,
Джеймса Ласта и иже с ними - пожалуйста,
вот вам Бетховен, Моцарт без отягчающих
восприятие "скучных" разработок,
полифонических эпизодов - одна чистая
экспозиция популярнейших тем да еще с
ритм-секцией... Кому-то это даже кажется
свежим дуновением ветра в затхлых
филармонических залах. А свежее дыхание,
как известно, облегчает понимание...
И ведь что опасно, многие уверены при
этом, что они слушают Бетховена, Моцарта...
А. К. ... Моцарта в
интерпретации Поля Мориа, но ведь все
равно это Моцарт! Впрочем, я согласен с
вами, есть разумный предел подобной
адаптации шедевров, который переходить
недопустимо. Но, возвращаясь к опере,
хочу сказать, что есть и другой предел - у
человека есть чисто физиологический
предел возможностей восприятия...
И. Р. Ну, у среднего человека,
безусловно.
А. К. Да нет, у любого
человека, - ему просто хочется... в туалет.
Полтора часа - это максимум того, что он
может выдержать. В кино можно в любой
момент выйти и войти снова в зал, в опере
- нельзя. Я считаю, это очень важный
момент. Человек, пришедший в концерт или
в оперу, должен чувствовать себя удобно,
комфортно. Важно, чтобы через полтора
часа максимум он мог выйти. Два часа
двадцать минут в кино не все выдерживают.
А уж в опере, где полно пожилых людей, тем
более.
И. Р. Но тогда, следовательно,
нельзя ставить "Летучего Голландца"
так, как того хотел Вагнер, нельзя
ставить "Золото Рейна" без
антрактов.
А. К. Нельзя, нельзя, это
негуманно.
И. Р. Но ставят же.
А. К. Так я вам скажу, это
антигуманно. Не все же в зале фанатики,
большинство - обычные, нормальные люди,
"как все".
И. Р. Андрей Сергеевич, я вам
задам вопрос, который, может быть,
покажется вам странным. Всякому
пишущему, даже самому талантливому,
самому независимому, необходим редактор.
Считаете ли вы, что такой редактор - не
цензор, а редактор-друг - необходим
режиссеру? Терпите ли вы редактуру,
относитесь ли благожелательно к
редакторам?
А. К. Думаю, что этим
редактором может быть, например, жена. У
меня была масса людей, которые мне
советовали - Валерий Гергиев, Александр
Титов, Ирина Соболева...
И. Р. И в продолжение
последнего вопроса - в процессе
существования и "проката" уже
поставленного спектакля вы
прислушиваетесь к мнению рецензентов?
А. К. Нет, единственное, что
меня интересует - мнение публики,
реакция зала.
И. Р. А вы не считаете
профессиональных критиков частью
публики?
А. К. Нет, не считаю. Мне
кажется, что рецензенты нередко грешат
самовыпячиванием. У меня в книжке им
посвящена глава - вы, наверное, читали -
под названием "О пользе
интеллектуального онанизма". Но
вообще, признаюсь, умная ругань лучше,
чем глупая похвала.
И. Р. С последним я
совершенно согласен. Спасибо за беседу.
P. S. Бывает,
правда, и так, что похвала от ругани
неотличима. Перед премьерой газеты
подогревали интерес к "Войне и миру"
заголовками вроде "Блокбастер-2000 для
избранной публики" ("Петербургский
Час Пик", 7 марта, 2000) или анонсами: "Наконец
пришел черед главного советского
блокбастера" ("Литературная газета",
N 10, 2000). А после премьеры дружно хвалили (или
все-таки ругали? - пусть решит читатель)
как раз за то, что постановщики обещали
чуть ли не каленым железом выжечь в
опере Прокофьева. На поверку вышло, что
вновь востребован "парадный
патриотизм", что для России опера "по-прежнему
неотделима от государственного
протокола" ("Вечерний клуб", 18-24
марта, 2000). Газеты в целом на редкость
единодушны.
"Спектакль Андрея
Кончаловского и Валерия Гергиева
призван явить зримый образ новой
русской национальной идеи" ("Независимая
газета", 14 марта, 2000).
"Пафос патриотизма
определил суть зрелища, оставив прочие
смысловые связи на откуп
подготовленному зрителю" (Литературная
газета", N 12, 2000).
"В батальном втором акте
Кончаловский продемонстрировал свой
голливудский профессионализм, а еще
более - опыт постановщика шоу на Красной
площади" ("Известия", 13 марта, 2000).
"Массовые сцены
Кончаловский поставил как клипы, что в
век клипового сознания смотрится очень
современно" ("Аргументы и факты",
N 11, 2000).
"Выглядящая как
музыкальное руководство на тему "как
любить свою Великую Родину", опера
Гергиева - Кончаловского (ну и
Прокофьева, конечно) является идеальным
экспортным товаром" ("Эксперт", N
11, 2000). Особенно трогательно это: "ну и
Прокофьева, конечно". Очевидно, так же
думал и рецензент, объявивший "Войну и
мир"... "самой верноподданической из
восьми опер Сергея Прокофьева" ("Санкт-Петербургские
ведомости", 21 марта, 2000).
Беседовал Иосиф Райскин
© 2000,
газета "Мариинский
театр"
|