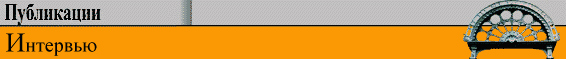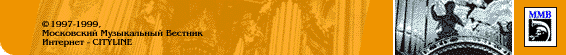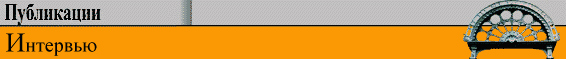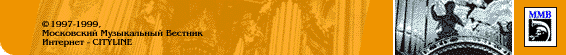| |
Дмитрий Бертман: «Главное –
быть свободным и не бояться делать то, в
чем ты уверен»
Московская
“Геликон-Опера”, отмечающая в апреле
свое десятилетие, давно уже завоевала
славу самого интересного музыкального
театра столицы. Сюда устремляются как
ради энергетического заряда,
источаемого едва ли не каждым
спектаклем, так и для того, чтобы увидеть
свежие, неожиданные (а на чей-то вкус и
шокирующие) трактовки произведений
классиков. И если местная критика
делится на два противоборствующих
лагеря — “за” и “против” (впрочем, в
самое последнее время участились
перебежки из второго в первый), то
западная, похоже, более единодушна в
своих оценках. “Он внес свежий ветер в
русскую оперу”, — написал пару лет
назад о лидере театра Дмитрии Бертмане
обозреватель Le Monde Ален Ломпеш. А его
коллега Эндрю Кларк из Financial Times заметил
после лондонских гастролей труппы: “Молодые
русские артисты заново изобретают оперу”.
Когда минувшей осенью в США показали “Пиковую
даму”, Клифтон Нобл в газете Union-News
утверждал следующее: “Показанный вслед
за недавней трансляцией “Пиковой дамы”
из Метрополитен, спектакль “Геликон-Оперы”
представляет пленительный контраст
своей трактовкой. По сравнению с “Геликоном”
постановка Мет кажется расплывчатой и
не соответствующей произведению, хотя и
превосходящей по качеству пения”.
В
канун юбилея мы беседовали с Дмитрием
Бертманом о феномене этого молодого еще
театра, в короткий срок сумевшего столь
громко заявить о себе городу и миру.
—
Начнем с самого начала. Как случилось,
что маленький мальчик Дима Бертман
вместо того, чтобы гонять мяч по дворам
или хотя бы бегать в кино, стал пропадать
все вечера в оперном театре, а позднее
сделался режиссером и создал свой театр,
который стал сегодня самым популярным в
Москве?
—
Во всем виноваты родители. Уже с детства
я учился на фортепиано и мама по
нескольку раз в неделю водила меня в
Большой зал консерватории на концерты
Гилельса, Рихтера, Светланова... А первый
поход в театр случился, когда мне было 4
года, — в ТЮЗ, на “Зайку-зазнайку”. Я
смотрел, плакал, страдал за персонажей, а
потом в антракте меня завели за кулисы и
оказалось, что без парика Баба-яга — это
дядя Володя, который у нас дома бывал.
Поначалу у меня был шок: в голове не
укладывалось, как такое возможно. И вот с
тех пор я перестал быть обычным зрителем.
Ведь задача детского театра —
обманывать, а я уже стал приходить в
театр, чтобы смотреть,
как они обманывают, наблюдать
процесс. Уже где-то классе в пятом я
точно знал, что хочу работать в оперном
театре. Я каждый день бывал в
Музыкальном театре имени
Станиславского, знал весь репертуар,
знал каждого артиста. Еще мальчишкой
бегал на репетиции к Михайлову и в
Большой театр к Покровскому, проходил
какими-то обманными путями и сидел в
ложе спрятавшись, чтобы меня никто не
видел. А потом совершенно неожиданно в 16
лет я поступил в ГИТИС. Я ведь думал
поступать в Университет
(в десятом классе ходил туда на
лекции по литературе и истории), а потом
предполагал пойти на режиссерские курсы.
Главное, я знал, что так или иначе приду к
театру. И приемный экзамен в ГИТИС я
воспринимал скорее как некую пробу сил,
тем более, что в комиссии мне сразу дали
понять, что в таком возрасте на
режиссерский факультет поступить
невозможно. Первым экзаменом было
актерское мастерство, и я за него
получил тройку. А после письменной
экспликации мне поставили пятерку.
—
А что это была за экспликация?
—
“Бал Лариных”. Когда работу
раскодировали и узнали, что ее писал я,
это вызвало нездоровый смех в комиссии.
Потом был коллоквиум. И я поступил.
Первый год мне как бы все время говорили:
“Это эксперимент, скорее всего вы не
будете учиться, но мы пробуем...” То есть,
я все время как бы сдавал экзамены,
каждый день. И по-прежнему каждый день я
бывал в театре.
В
то время я отнюдь не собирался создавать
свой театр. Пределом моих мечтаний было
работать очередным режиссером в каком-нибудь
провинциальном (о Москве я вообще не
говорю), вампучном театре с большими
декорациями, с кистями, с бантиками, с
кулисами, с падугами, с имитацией
дворцов и пирамид. У меня было такое
консервативное, традиционное
образование, и мне все это нравилось.
Честное слово, нравилось. У меня дома
была игрушка, макет театральный (по нему
весь наш курс потом защищал работу по
предмету “Работа с художником”), —
подмакетник с вращающимся кругом, с
прожекторами, с открывающимся занавесом.
У меня в диване находилось спектаклей 80,
сделанных из картона. Учась в ГИТИСе, я
пытался найти любые возможности ставить.
В те годы я поставил спектакли в Одессе,
в Сыктывкаре, в драматическом театре в
Твери. В Москве у меня был кружок, вот
здесь же, в Доме медиков, где я ставил
оперы и где пели наши студенты из ГИТИСа,
а также и врачи, которые занимались в
самодеятельности.
Что
касается театра “Геликон”, то все
произошло в общем-то случайно. В ГИТИСе у
меня были друзья — певцы, учившиеся на
параллельном курсе. Когда мы закончили
ГИТИС, я предложил поставить для них “Мавру”
Стравинского. Никакой идеи создавать
театр не было. Просто сделал спектакль
для близких мне людей — Тани
Моногаровой, Сережи Яковлева, Светы
Куликовой и Кати Мельниковой.
—
Если я не ошибаюсь, на этот спектакль уже
рассылались приглашения как на открытие
театра.
—
Сначала мы сделали спектакль, а потом
уже решили назваться театром. Мы в ЦДРИ
играли первый спектакль, и нас спросили:
“Как вас заявить?” Мы сказали: “Театром”.
Но что из этого и вправду возникнет
театр, где будет триста с лишним человек,
как сейчас — такой мысли просто не было.
Потом
мы поставили “Туда и обратно”
Хиндемита, и постепенно у нас подобрался
довольно интересный репертуар, который
мы очень любили. Сейчас я понимаю
прекрасно, что в тех работах была куча
недостатков. Но была энергия — мы очень
хотели это делать. А денег не было.
Вообще!
—
И определенной эстетической платформы
тоже не было?
—
Шли наобум. Довольно специфический
репертуар был во многом продиктован
нашими возможностями. Скажем, “Блудный
сын” Дебюсси появился не столько потому,
что нам хотелось сделать именно эту
оперу, а потому что у нас были сопрано,
баритон и тенор. Я искал произведения,
которые можно было бы исполнить в таком
маленьком составе. И поэтому у нас
появились “Скрипка Ротшильда”
Флейшмана, “Кейстут и Бирута” Скрябина
и другие названия, которые относятся к
элитарному репертуару. Но сразу
возникала проблема: на эти спектакли
приходили люди, которые интересуются
музыкой, театром, посмотреть новое
название, которое нигде не шло, а потом
зал был пустой. Потому что кого загонишь
на Прокофьева в какой-то театр
непонятный, где нет ни одного народного
артиста, ни одной звезды? Потом возникли
и другие сложности, ушла наша прима Таня
Моногарова. И в какой-то момент встал
вопрос: или театр умрет, или надо что-то
предпринимать. Но, так как я Скорпион, у
меня любая сложность вызывает прилив
энергии. И я сказал: “Нет уж, мы не умрем.
Мы должны играть”. В этот момент я уже
действительно решил делать театр.
Мы
стали искать спонсоров. Мы записали “Мавру”
и “Маддалену” на компакт-диск, за счет
которого жили целый год. У нас появились
новые артисты. Потом ко мне пришла Таня
Громова и сказала, что у нее есть хор в 12
человек, у них
есть спонсоры, у них большие зарплаты, и
они все фанаты нашего театра и хотят
работать с нами. “Но мы же не сможем вам
платить”. — “Ничего, мы так будем
работать”. И мы сделали с ними “Паяцев”.
Это был первый большой спектакль, где
был уже маленький хор, маленький, но
оркестр, а не ансамбль. Мы играли “Паяцев”
с большим успехом. Название уже
гарантировало публику, а не только
специалистов, как прежде. Потом их
спонсор стал содержать наш театр. И
дальше стала меняться программа театра.
Мы стали ставить уже знакомые названия,
но идти к ним совершенно непривычным
путем.
—
Когда пять лет назад я после долгого
перерыва снова пришел в “Геликон”, то
обнаружил почти полный состав оркестра.
—
Все происходило постепенно. В начале,
как я уже говорил, у нас совсем не было
денег. Много трудностей выпало на долю
Кирилла Клементьевича Тихонова — камни
в основном летели в него. Но объективные
обстоятельства сложились так, что мы по
существу не имели оркестра, — приходили
отдельные музыканты. Сейчас я могу
открыть тайну: репетиция начиналась за
два часа до представления. Читка с листа
— потом спектакль. У нас не было
возможности заплатить людям за
репетиции. Или надо было вообще ничего
не делать, или идти вот таким путем.
Тихонов на это пошел. И благодаря его
мастерству можно было играть спектакли
с листа, не останавливаться. А партитуры
были сложные, те музыканты, которые
приходили, как правило, раньше их не
играли. Потом у нас появился спонсор. Мы
обратились в Правительство Москвы, нас
поддержали Покровский, Образцова, и
произошло чудо: нам дали статус
государственного театра и 30 единиц
оплачивал бюджет. С этих 30 единиц все
началось. И сейчас у нас полуторный
состав оркестра, большой хор, большая
группа солистов. Словом, нормальные
условия, чтобы делать тот репертуар,
который мы хотим делать.
—
Пройдя в репертуарной политике путь от
раритетов к мейнстриму, сейчас, на
пороге юбилея, театр, похоже, вновь
разворачивается в сторону раритетов?
—
Да, все меняется. Хотя, в принципе, многое
из того, что мы ставили, на тот момент
здесь не шло. Когда мы ставили “Кармен”
или “Аиду” —
их не было в Москве. Эти шлягерные
названия привлекали зрителя. А сейчас,
когда театр набрал определенные обороты
и приобрел своего зрителя, который ходит
в “Геликон” не просто на название, а на
все, что мы предлагаем, — сейчас можно
начинать знакомить зрителя с
произведениями, раритетными в нашей
стране. В 1998 году мы сделали “Сказки
Гофмана”, редкое название в России. Этот
год начали с “Леди Макбет” Шостаковича,
а весной у нас будет “Макбет” Верди,
который вообще в Москве не шел. В
следующем сезоне будем ставить — “Турандот”
Бузони. Это вообще всемирный раритет,
очень редко где ставится. Потрясающая
опера, гениальная музыка. И так,
постепенно, мы будем осваивать
репертуар ХХ века. А через сезон у нас, я
надеюсь, появится Вагнер: мы с
Владимиром Понькиным хотим сделать “Тристана”.
—
Вагнер в этом зале?
—
Почему бы и нет? Вообще, вот этот эффект
музыкальной ванны в нашем театре, когда
музыка словно проходит через жилы, он
тоже имеет свои большие положительные
моменты, не только отрицательные.
Но
может быть к тому времени найдем другое
помещение — это ведь планируется еще
только через сезон.
—
Наверное, пора уже всерьез браться за
Моцарта, понемногу
подступаться к Генделю и вообще к
барочному репертуару.
—
Немного страшновато. Это вопрос
стилистический. Но барочная опера в
планах есть. К сожалению, в России
барочная культура не получила развития
исторически. Но Россия — часть мира, а
мир сейчас “болен” барочной культурой.
Барочный репертуар агрессивно ворвался
на сцену, и это, я думаю, говорит о чем-то
важном. Это очень сложно, но это нужно
делать.
—
Если попробовать в нескольких словах
сформулировать какие-то основные
принципы эстетики и методологии
режиссера Дмитрия Бертмана и театра “Геликон”?
—
В том, что касается методологии, наш
театр, я считаю, очень традиционный.
Глупо создавать что-то новое, не зная
старого. Весь мир ценит то, что Россия
дала театральной культуре. Для меня это,
прежде всего, Станиславский, Михаил
Чехов, Шаляпин, Мейерхольд, Вахтангов, —
те люди, которые создали определенный
базис. Не воспользоваться их
изобретениями глупо. К сожалению, многие
их подходы искаженно трактовались в
советское время. Они и сами постоянно
менялись. Ранний Станиславский и
поздний Станиславский — это два
совершенно разных человека. И
пропагандируют, доказывают совершенно
разные вещи. Любой, даже самый
современный спектакль, самый
авангардный, базируется на простых
схемах, которые разрабатывали, каждый по-своему,
эти великие мастера.
—
Это теория. Вернемся к практике. Вот ты
говорил, что в юности любил традиционный
театр, традиционную, даже вампучную,
оперу. Как произошел перелом в твоем
сознании?
—
Свою роль сыграли, конечно, спектакли
Покровского, Михайлова, и особенно — “Кармен”
Фельзенштейна. Но самым крупным
событием, которое поменяло ментальность,
стала поездка в Лондон, в Национальную
Оперу. В то время я учился на 2-м курсе в
ГИТИСе. Я сидел на репетициях оперы
Яначека “Катя Кабанова” у Дэвида
Паунтни, смотрел репертуарные спектакли
этого театра. И вот после этого для меня
многое изменилось. Я увидел, что такое
свобода замысла. Понял — и это опять
возвращение к традиции, — что надо
находиться в большом круге внимания, а
не только в малом. Когда говорят о
кризисе каких-то крупных наших театров,
я думаю, проблема именно в том, что люди
смотрят на мир в малом круге внимания. В
Большом театре, например, все очень
красиво, люди живут внутри театра и
считают, что за пределами Большого
ничего не существует. А там я сразу понял,
что кроме этого театра, другого,
третьего существует огромная планета,
где есть огромное количество театров,
художников, режиссеров. Они делают то,
что они хотят делать, и смело предлагают
это зрителям. Я понял, что самое главное
— быть свободным и не бояться делать то,
в чем ты уверен.
Паунтни
— это концептуальный театр и театр
честный. При этом он тоже в известной
степени традиционен, ибо занимается тем,
чем занимался Станиславский, — жизнью
человеческого духа, — только в другой
форме.
—
Должен сказать, что в некоторых
последних работах Паунтни (например, в “Вильгельме
Телле” на сцене венской Штаатсопер) я
как раз этого и не обнаружил...
—
Может быть, я не видел. Вообще на Западе
разные тенденции. Многие занимаются
концептуальным театром, но без
человеческого духа, и сейчас это очень
модно, например, в Германии. Мне это
совершенно неблизко. Эти спектакли, где
все декорации — комнаты с потолком
разного цвета, где все сконцентрировано
на одном символе, и артисты существуют в
пространстве вне задач и вне психологии.
Их задача — ни в коем случае не
всковырнуть эмоцию. И если, например, на
“Травиате” публика заплакала, значит,
плохой спектакль. Во мне все противится
этому и я никогда не пойду по такому пути.
Сейчас театр идет, как правило, от
дизайнера. Дизайнеры даже начали
ставить спектакли как режиссеры.
Придумывается некий образ, и дальше люди
расставляются на сцене как элементы
дизайна. Конечно, все имеет право на
существование — если на это ходят, но
мне кажется, что это имитация. Для меня
это не театр. Театр с древности призван
действовать на зрителя, чтобы зритель
эмоционально реагировал на то, что
происходит на сцене. Он должен смеяться,
плакать, хохотать, страдать, думать, то
есть быть сопричастен к тому, что
происходит на сцене. И он не может быть
просто наблюдателем картинки.
—
Вернемся к режиссеру Бертману.
Нередко то, что ты рассказываешь о
будущем спектакле, во многом не
совпадает с тем, что потом возникает на
сцене. В этой связи: как соотносятся у
тебя предварительный замысел и то, что
рождается в процессе репетиций?
—
Вообще, это все — темное дело, каждый раз
все идет по-разному. Естественно, когда я
беру произведение, у меня есть
направление, куда я пойду, то есть я
примерно знаю, для чего я взял это
произведение. Но я никогда не прихожу на
репетицию, точно зная: ты — налево, ты —
направо, ты здесь будешь сидеть, вы здесь
будете стоять. Мизансцена, или, как
говорят многие, география, — это уже
финальный этап спектакля, форма. Но
прийти к ней надо путем совершенно живым,
то есть в нее должно вылиться то
содержание, что было заложено. А для того,
чтобы этого достичь, надо максимально
освободиться и максимально подпустить
подсознания. Для этого я должен точно
дать актеру задачу и увидеть, как он
ее выполняет, и дальше ему где-то
приоткрывать двери и проводить по этому
лабиринту. Первый этап репетиций,
который идет в классе, это в основном
заготовки, чтобы перейти на сцену. На
сцене уже можно заниматься формой, зная,
что эта форма является уже как бы языком
содержания. Чтобы не получилось, что
языком можно говорить о бессмыслице.
—
В последние годы идет такой
параллельный процесс: театр “Геликон”
совершил стремительный рывок на Запад, и
одновременно и режиссер Бертман
востребован на многих крупнейших сценах.
Как это все началось?
—
Так получилось, что мы с нашим театром
очень рано вырвались на Запад. Первым
спектаклем, который выехал за рубеж,
была “Пиковая дама” Чайковского, —
Луиджи Феррари пригласил на фестиваль в
Уэксфорд. Спектакль прошел с успехом,
была очень хорошая пресса. В общем, этот
спектакль положил начало гастрольной
деятельности театра, и он же дал мне
возможность работать за границей. Меня
тут же пригласили поставить в Уэксфорде
“Богему” с “Онегиным”, потом “Русалку”
Даргомыжского. Я воспринимаю все это как
единый процесс. К тем спектаклям,
которые я ставлю за рубежом, я отношусь
так, как если бы я ставил для “Геликона”.
И эти спектакли очень похожи на наши
спектакли в “Геликоне”. То есть,
сценический подход к спектаклю и к
работе с артистом остается тем же. Но,
конечно, многое зависит от сценических
площадок. “Геликон” имеет небольшую
сцену. А в Торонто, где я ставил “Травиату”,
сцена имела 26 метров (в Кремлевском
дворце — 24 метра). Это огромнейшая сцена,
футбольное поле. Естественно, “Травиата”
на футбольном поле ставится не так, как в
бальном зале, на Большой Никитской.
Возникают другие приспособления для
выражения мысли и работы с артистами.
С
другой стороны, когда мы с “Геликоном”
выступаем, например, в лондонском
Элизабет-холле, зальцбургском
Фестшпильхаусе или парижском Театре
Елисейских полей, то в этих огромнейших
залах спектакли по-другому
воспринимаются, и в целом они не теряют,
а только выигрывают. Парадокс, но даже “Пиковая
дама” — самый камерный наш спектакль,
который весь построен на крупном плане
— выигрывает на больших сценах. Это как
птицу выпускают из клеточки полетать.
Потом мы возвращаемся в нашу уютную
клеточку... Хочется перестроить наш
зоопарк. Зону выгула сделать более
широкой, это даст возможность большей
свободы. У нас сейчас есть несколько
проектов. Один — строительство
подземного зала. Ведутся разговоры с
правительством Москвы, нам вроде бы
пообещали дополнительно подыскать
сцену в центре Москвы, чтобы расширить
наши возможности. Конечно, у нас
замечательная сцена, но тяжелая, она уже
держит нас, давит. С одной стороны
приятно, что билеты у нас, несмотря на
высокие цены, проданы на несколько
месяцев вперед. Но очень много желающих
прийти к нам в театр. Иногда даже своих
друзей не можешь распихать по залу. Если
у нас будет зал, который способен
вместить большее количество народа, это
будет замечательно.
—
Немного подробнее о гастролях —
прошедших и предстоящих.
—
У нас сейчас установились особенно
тесные, долговременные отношения с
Францией. Нами очень серьезно
занимается импресарио Доминик Вернер (его
отец, кстати, был импресарио Каллас). В
Монпелье на фестивале Радио Франс мы
показали прошлым летом “Кармен” и “Сказки
Гофмана”, а в этом году покажем “Леди
Макбет”, “Маддалену”, “Мавру” и гала-концерт...
С Монпелье у нас контракт на пять лет,
они вообще нам предложили резиденцию (по
типу того, что было у “Виртуозов Москвы”
в Испании). Но мы на это не пошли.
В
этом сезоне мы уже дважды выступили на
сцене Театра Елисейских полей. Для меня
это особый период жизни, который
запомнится на всю жизнь, потому что
такой уникальный случай: русские играют
в Париже “Кармен”... Конечно, было
страшно, первый спектакль начинался —
просто всех трясло. Этот зал... Я сразу
вспомнил книгу Елены Образцовой, где она
пишет, что когда выходишь на сцену,
смотришь на зал, то кажется, что это —
пасть кита. Вот эти ярусы как челюсти — я
там сразу вспомнил это — челюсти,
которые вот сейчас съедят, и эта
снобистская французская публика. А
потом был грандиозный успех, мы играли
этот спектакль пять раз с тремя
составами и полными аншлагами, и его
посмотрело двенадцать тысяч зрителей.
Особенно приятно, что среди публики были
и наши прославленные соотечественники
— Елена Образцова, Мстислав Ростропович.
И они очень хорошо реагировали,
много комплиментов сказали.
Событием
для нашего театра стало то, что Наталья
Загоринская после двухлетнего перерыва
спела Кармен — с грандиозным успехом, —
и влюбила в себя весь Париж. В нашей
труппе уже была одна любимица
французской публики по прежним
выступлениям, “народная артистка
Парижа”, как мы ее в шутку называем, —
Елена Вознесенская. Теперь Загоринскую
полюбили так же сильно.
Наш
контракт с Театром Елисейских полей
предполагает ежегодные выступления.
Осенью здесь состоится премьера нашей
новой “Травиаты”, а в дальнейшем
собираемся показать “Пиковую даму”, “Мазепу”,
новую постановку — “Риголетто”. Сейчас
вот “Кармен” опять пригласили в Париж,
на повторные гастроли. А в мае мы покажем
ее в Руане, и там будет делаться запись
фильма-оперы “Кармен”. Потом в июне
театр выезжает в Эвиан на фестиваль
Ростроповича, где пойдет “Летучая мышь”
в нашей постановке. Ростропович будет
дирижировать. Для наших певцов это
большое событие — работать с
Ростроповичем, общаться с ним. Для
самого Ростроповича, кстати, это
название значит очень много: в 1974 году
ему так и не дали осуществить постановку
“Летучей мыши” в московской Оперетте, и
это тоже послужило одним из поводов для
его отъезда из России...
В
следующем сезоне у нас опять большая
программа во Франции. Еще будут Австрия,
США и Испания. Сам я в октябре буду
ставить в венской Фольксопер “Похождения
повесы” Стравинского, а потом в другом
австрийском городе Клагенфурте — “Евгения
Онегина”.
Зарубежные
гастроли для нас важны не только потому,
что зарплаты у артистов такие же, как и
во всех театрах, маленькие, а гастроли
дают возможность жить. Еще важнее, что
это дает возможность каждому артисту
учиться, повышать свой интеллектуальный
и артистический уровень. Любые гастроли
— это наблюдение: новое пространство,
новые страны, новые люди, новая
зрительская реакция.
Беседовал
Дмитрий Морозов
© 2000,
газета "Мариинский
театр"
|