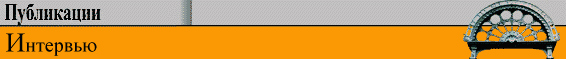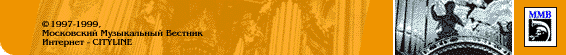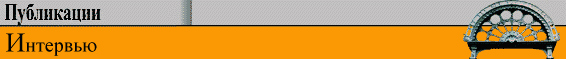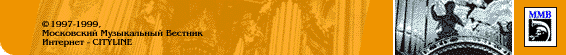| |
Пьер
Шеффер. Интервью 1986 года:
разочарование первооткрывателя.
Перевод
и вступительное слово Юлии
Дмитрюковой
В истории
музыки XX века, в частности, в той ветви ее
эволюции, что связана с техническим
прогрессом, особая роль принадлежала
новаторам-дилетантам. Они не только
предлагали на суд профессионалов новые
музыкальные инструменты или открывали
новые пути использования уже известных
инструментов и приспособлений. Нередко
сам изобретатель являлся автором
революционных музыкально-эстетических
идей, которые неожиданно оказывали на
определенную часть музыкального мира
более весомое влияние, нежели эстетика,
родившаяся в кругах музыкального
академизма. Одна
из наиболее ярких фигур подобного рода
— французский радиоинженер, композитор
и теоретик музыки
Пьер Шеффер (1910, Нанси –1995, Париж).
Шеффер приобрел известность в конце 40-х
годов: работая в то время инженером на
Французском радио, он основал первую
студию конкретной музыки и
сформулировал ее основные идеи и
методы. В течение первых пяти лет
существования студии он, в соавторстве
с композитором Пьером Анри, создал
несколько значительных образцов в
данном жанре, включая «Симфонию для
человека соло» и первую «конкретную»
оперу «Орфей». С середины 50-х годов
Шеффер отходит от студийной работы,
почти всецело посвятив себя
теоретическим проблемам основанного
им музыкального направления, нашедшим
отражение в ряде его исследований, значение
которых до сих пор не получило должной
оценки в музыковедческих кругах.
Наиболее важные среди его трудов (к
сожалению, пока не переведенных на
русский язык) — «К исследованию конкретной музыки»
(1952), объединяющий в себе сборник «студийных
журналов» Шеффера за 1948-51 годы, и
теоретический «Эскиз конкретного
сольфеджио»; объемный «Трактат
о музыкальных объектах» (1966),
подробно раскрывающий сущность предложенной
им новой системы музыкального мышления
«звуковыми объектами», и
представляющий исчерпывающую картину
музыкально-эстетических взглядов
автора.
В данной публикации предлагается
перевод малоизвестного интервью
Шеффера, появившегося через двадцать
лет после написания «Трактата...»
и представляющего неожиданный поворот
в его взглядах на музыку в целом и
совершенно иную оценку собственной
деятельности, данную им в конце своего
пути. В связи с малочисленностью
русскоязычной литературы о конкретной
музыке, текст интервью предваряется
пояснительным разделом, содержащим
некоторые биографические сведения о
Шеффере, ряд фактов из истории
конкретной музыки, описание ее
основных элементов, краткий обзор
некоторых трудов Шеффера, а также
характеристику самого интервью. В
заключении (после текста интервью)
предпринята попытка проанализировать
причины позиции Шеффера,
продемонстрированной им в интервью, а
также оценить роль конкретной музыки и
деятельности ее создателя в контексте
нововведений в музыке второй половины XX
века.
Пьер
Шеффер был человеком разносторонне
одаренным и обладал широким диапазоном
интересов в различных областях
искусства, техники и
философии. Он происходил из музыкальной
семьи, владел несколькими музыкальными
инструментами, имел представление об
основах теории музыки. Уже в молодые
годы он начинает заниматься
литературной деятельностью, как биограф
и романист (всего опубликовано около
десяти его литературных произведений).
Шеффер проявил себя и как общественный
деятель: принимал участие во
французском Сопротивлении и движении
скаутов, в 1941 г. организовал общество
молодых любителей
искусства «Юная Франция». Последние два
десятилетия своей жизни он выступал в
роли писателя-публициста, освещая в
прессе некоторые аспекты современной
культуры.
Шеффер не
был рядовым специалистом по
телекоммуникациям: уже в середине 40-х
годов он занимал высокооплачиваемую
должность звукоинженера-акустика в
корпорации Radio-Television Française
(RTF),
а с 1953 года находился на посту
генерального менеджера Французского
радио в других регионах, управляя
установкой коммуникационного и
студийного оборудования в ряде
африканских стран. Таким образом,
профессиональные обязанности не только
позволяли ему находиться в авангарде
передовых звуковых технологий того
времени, но и обеспечивали широкий
спектр музыкальных впечатлений, в том
числе и за пределами европейской
цивилизации.
Помимо сугубо технической
деятельности, Шеффер уже с начала 40-х
годов вовлекается в творческий процесс
в области радиотеатра, возглавив
экспериментальную группу «Studio
d’Essai»
(c 1946 года — «Club
d’Essai»)
и выпустив в эфир в качестве автора и
режиссера несколько крупных
литературно-музыкальных постановок —
так называемых «радиофонических эссе».
В частности, в 1943-44 гг. им была поставлена
«радиофоническая опера» La
coquille a Planetes
(«Планетная скорлупа»), состоящая из
восьми 60-минутных разделов; Шеффер был
автором текста «оперы», осуществил весь
звуковой монтаж и даже исполнил
несколько ролей (автором музыки был
композитор С.Арье). Радиофоническое
искусство подразумевает приоритет
литературного текста, в его
драматическом прочтении, но тем не менее
включает в себя широкую палитру иных
звуковых элементов, подчеркивающих и
комментирующих различные аспекты драмы:
от простейших звуковых эффектов до
сложных музыкально-шумовых построений,
играющих существенную роль в
драматическом контексте. В книге «10 лет
радиофонических эссе»
Шеффер рассказывает о своем увлечении
звуковыми экспериментами и о радио как о
многообещающем средстве эстетического
воздействия; он пишет, что La
Coquille a Planetes была попыткой «подтвердить
возможности специфически
радиофонической выразительности в
любых возможных и вообразимых областях»
(p.30). Он отмечает, что один из разделов «оперы»
—Aigles («Орлы») —
содержал необычные музыкально-шумовые
фрагменты, непосредственно
предвосхитившие будущие опыты musique
concrète.
Шеффер
начал свои музыкальные опыты весной 1948
года, экспериментируя со звуками
индустриального происхождения (в
частности, с записями, сделанными в депо
Gare des Batignolles в Париже), окружающих
предметов, ударных инструментов и
фортепиано. В то время его студия еще не
была специально оборудована — в ней
имелись лишь проигрыватели, микрофоны,
усилители и репродукторы, — и поэтому
используемые Шеффером методы были
довольно примитивными: проигрывание с
изменением скорости и в обратном
направлении; изготовление звукового «кольца»
или «петли»; удаление атаки и затухания
звука; наложение нескольких звуковых
пластов. Первая программа «конкретной
музыки» — «Сoncert de
bruits»,
переданная по французскому радио 5
октября 1948 года, вызвала серьезный
скандал в Париже. «Пять шумовых этюдов»
Шеффера восприняли как нечто прикладное,
что может пригодиться в области
оформительской музыки, но никак не в
роли самостоятельных произведений.
Шеффер стремится увеличить «музыкальность»
своих опытов и обращается к звукам
инструментов различных групп оркестра.
Исполненные на них звуковые
последовательности «вынимались» из
контекста, обрабатывались и заново
соединялись в единое целое. В Diapason Concertino и Сюите
для 14 инструментов (1949)
Шеффер пытается ставить перед собой
четкие композиционные задачи: например,
противопоставить инструментальной
монодии короткие шумовые фрагменты или
выполнить «вариации» на одну фразу,
монтируя ее проведения у различных
инструментов с использованием
звуковысотной транспозиции. Все же он
остался недоволен и этими сочинениями,
отмечая присущую им неестественность
фразировки, «несливаемость» звуковых
событий, а также то, что техника
реверсивного проигрывания и изменения
скорости звука не принесла ничего
существенно нового. В дальнейшем он
снова возвращается к шумам. В 1949 г. он
просит средств для расширения студии и
увеличения состава ассистентов. В
студии появляется ученик Мессиана в
Парижской консерватории Пьер Анри (ему в
то время было 22 года), совместно с
которым Шеффер создает два наиболее
крупных и известных сочинения
конкретной музыки: «Симфонию для
человека соло» в 10 частях (позже на нее
был поставлен «Ballet
de l’etoile» М.Бежара)
и — в уже модернизированной студии
— «конкретную» оперу «Орфей», премьера
которой состоялась в Донауэшингене в 1953
году.
В 1955 году была выпущена первая пластинка
с записями конкретной музыки, с
произведениями Шеффера, Анри, М.Филиппо
и Ф.Артюи. Эти произведения были также
исполнены на ряде европейских
фестивалей: в Кельне, Венеции, Мюнхене,
Милане и Барселоне.
Первые
опыты Шеффера вызвали весьма
неоднозначный прием, оказавшись «между
двух огней»: они вызвали критику как
представителей традиционной
инструментальной музыки,
так и приверженцев другого
экспериментального направления —
немецкой elektronische
Musik,
враждебно встретивших трансляцию «Симфонии
для человека соло» по радио в Кельне,
Гамбурге, Баден-Бадене и Мюнхене.
Открытое столкновение идей двух
направлений произошло на известном
Симпозиуме по звуковым технологиям,
проведенном в рамках Летней школы в
Дармштадте в 1951 г. (именно на нем, в
частности, зародилась идея создания
Студии электронной музыки в Кельне, в
которой позже работали Г.Аймерт и К.Штокхаузен).
П.Мэннинг описывает атмосферу на
конференции следующим образом: «Французы
и немцы яростно не соглашались друг с
другом, а швейцарцы критиковали и тех и
других за то, что они называют свою
работу «музыкой».
Антагонизм
musique
concrète
и electronische Musik
был, казалось, обусловлен различием
звукового материала: звуки и шумы
естественного происхождения в
конкретной музыке,
и звуки электрогенераторов и других
устройств — в электронной. Однако, их
разделяла не только, — и не столько, —
разница в материале, сколько
— в самом методе работы с ним. Критика Шеффером
электронной музыки была связана не с ее
искусственностью, «мертвенностью»
звучания, а с подменой в ней, по его
мнению, критериев слухового восприятия
объективными научными данными. Для
электронной музыки ведущими являлись
идеи системы, совершенного контроля,
полнейшей рационализации; в сущности,
ранняя электронная музыка представляла
собой скрупулезное воплощение
додекафонных и сериальных принципов в
новом, искусственном звуковом материале,
ставшем своего рода «идеальным сырьем»
для реализации заранее рассчитанных
многопараметровых сериальных структур.
Шеффер
обвиняет двенадцатитоновую технику в
потере современной музыкой
коммуникации со слушателем. Он делает
вывод, что традиционная система
мышления музыкальными тонами оказалась
в своего рода тупике абстракции и
схематизма; при этом собственно
звуковое воплощение музыкальной идеи
оказывается вторичным по отношению к
создаваемой композитором схеме-структуре.
В то же
время, опыт эмпирической работы со
звуками в условиях радио, обнаружение
реального драматического воздействия
на слушателя звуков различной природы, в
их изначальных и преобразованных
вариантах и сочетаниях, привели Шеффера
к мысли о возможном выходе европейской
музыки из кризиса и возвращении «утерянной»
ей музыкальности, — но уже
за пределами традиционного «нотно-параметрового»
мышления. Для обозначения собственной
идеи Шеффером был удачно найден термин concrèt («конкретный,
реальный») — как антиномия abstrait
(«отвлеченный, абстрактный»). В
противоположность изначальной опоре
традиционной музыки на абстрактную
схему, структуру (в виде заранее
зафиксированной партитуры
– «от схемы к звуку»), а не на реальное
звучание, предложенная им конкретная
музыка основана на реальных звуковых
событиях, из которых эмпирическим путем
складывается структура будущего
сочинения («от звука к схеме»).
В качестве
воплощения своей идеи Шеффер предложил,
прежде всего, иную методологию сочинения музыки: запись
звука на пленку и последующие
манипуляции с ним. Источником материала
для musique concrète
могла выступать вся звуковая
вселенная. Это отнюдь не исключало
использования, наряду с шумовым
материалом, звуков музыкальных
инструментов и поющего голоса.
Характер звукового источника, в
сущности, не имеет значения: важно, каким
образом данный материал используется.
Инструментальные и вокальные отрывки,
так же как и шумовой материал,
записываются на пленку, видоизменяются
при помощи электроаппаратуры и только
затем формируют звуковую ткань
произведения — уже в роли так
называемых звуковых
объектов (objet sonore),
а не музыкальных тонов или мелодико-гармонических
построений.
Звуковой
объект, согласно теории Шеффера, — любое
звуковое событие, отделенное от
порождающего его физического акта (например,
удара по клавише) и затем обретающее
новый смысл, будучи помещенным в иную
контекстуальную структуру «конкретной»
композиции. Шеффер
направил свои усилия на поиски чисто
звуковой семантики, акустической
экспрессии любого звука (шума). Теория
мышления звуковыми объектами, впервые
провозглашенная им в «Исследовании
конкретной музыки»
и затем развитая в его главном труде
— «Трактате о
звуковых объектах», представляет
собой первую попытку обоснования
возможности целостного музыкального
мышления (в том числе его конструктивно-семантической
стороны, которая в традиционной музыке
выражена преимущественно средствами
мелодики, гармонии и ритма) только в
пределах тембро-акустических свойств
звукового материала (традиционно
именуемых фонизмом), не исключающих,
впрочем, выразительных возможностей
ритма и динамики (о структуре и
содержании «Трактата» — см. ниже).
Первым
опытом теоретического описания
морфологии звуковых объектов стал «Эскиз
конкретного сольфеджио»
— последняя часть книги «Исследование
конкретной музыки». «Эскиз...»
состоит из двух разделов. В первом
дан свод определений для описания
звуковых объектов: их классификация,
виды манипуляций с ними. Во втором
разделе, для описания эволюции
звукового объекта предложены три
аналитических плана
— мелодический, гармонический и
динамический, которые характеризуются
рядом отдельных дескриптивных
критериев, позволяющих получить более 50
тысяч вариантов описания звуковых
событий. Важно отметить, что в выборе
критериев для подобного описания Шеффер
руководствовался прежде всего
психоакустическими особенностями
восприятия, а не особенностями
технической реализации или
объективными научными данными. Помимо
этого, им была частично решена проблема
графического отображения
рассматриваемых звуковых процессов:
каждый из предлагаемых критериев,
помимо словесного описания, представлен
в виде рисунка-схемы (например, пять
критериев мелодического плана
звукового объекта представлены в виде
кривых различной формы).
Следует
отметить, что если в области теории
Шеффер резко отграничивал musique
concrète
от традиционных методов композиции, то в
практической студийной работе он
нередко шел на компромиссы с традицией,
особенно в период с начала 50-х годов.
Одной из подобных «уступок» была,
например, попытка создания адекватной
партитуры для фиксации на бумаге «конкретных»
произведений. Шеффер предлагает, во-первых,
создавать два типа партитур: «операционную
партитуру» (la partition
opératoire),
в которой описываются технические
процедуры, и «партитуру результата» (la
partition d’effet), в которой представлен
музыкальный результат.
Для большей точности фиксации он
предлагает разделить все звуки по
некоторым характеристикам на «псевдоинструменты»
и записывать их традиционным образом, в
виде партитуры для Orchestre
concret; первая подобная
партитура была составлена Шеффером для
«Концерта двусмысленностей» П.Анри (1950)
и состояла из четырех «инструментальных
групп»:
1.
«живые» объекты (голоса, вокал)
2.
шумы
3.
подготовленные инструменты
4.
традиционные инструменты.
Все
партии orchestre
concret записывались
на нотоносцах при помощи традиционных
нотных знаков и графических символов;
отличие состояло также в способе
фиксации времени, которое записывалось
в секундах.
Другим
своеобразным компромиссом было не
всегда категорически отрицательное
отношение Шеффера к использованию
элементов серийной техники на практике
— если не им самим, то его ближайшими
коллегами. Как известно, в период с 1951 по
1958 год в студии Шеффера постоянно
работали композиторы «академического»
направления, как уже именитые— Д.Мийо, О.Мессиан,
так и молодые — П.Булез, К.Штокхаузен, Я.Ксенакис.
Большинство созданных ими в студии
сочинений отнюдь не исключало серийных
принципов. Серийные закономерности
использованы, например, в «Этюде на один звук» Булеза,
многопараметровая сериальная
организация - в «Конкретном этюде»
Штокхаузена. Даже ближайший соратник
Шеффера — Пьер Анри — неоднократно
сочетал методы конкретной музыки с
серийностью (например, в сочинениях «Антифония»
и «Вокализы»).
Весьма
показательный характер имела
опубликованная в 1957 году, в сборнике под
редакцией Шеффера «К
экспериментальной музыке» (La Revue
Musicale 236;
Paris:
Richard Mass),
статья французского музыкального
критика Антуана Голеа «Тенденции
конкретной музыки». В ней автор
выделяет четыре существующих в то время
тенденции внутри musique
concrète:
«экспрессивную» конкретную
музыку, которую характеризует
отсутствие строгих формальных
закономерностей и относительно
примитивный характер материала; сюда
относятся, прежде всего, ранние «Шумовые
этюды» Шеффера и «Симфония для человека
соло» Шеффера-Анри; «абстрактную»
(!!) конкретную музыку, объединяющую
сочинения с серийной организацией
конкретного материала (пьесы Анри,
Булеза, Мессиана и М.Филиппо); «музыкальную» (!!!) конкретную музыку,
в которой используются, главным образом,
звуки традиционных инструментов («Мексиканская
флейта» Шеффера, «Джаз и джаз» А.Одейра (Hodeir)
для фортепиано и фонограммы); и, наконец, «образцовую»
конкретную музыку, сочетающую в себе
возможности всех трех вышеописанных
тенденций: «экспрессивность», «абстрактность»
и «музыкальность» («Фиолетовый этюд»
Шеффера, «Фугасная батарея», «Там-там IV» и
«Антифония» Анри).
Нельзя не
заметить несогласованности подобных «тенденций»
с идеями Шеффера, высказанными им в «Исследовании...»
1952 года
(а вышеуказанный сборник статей был
подготовлен к изданию уже в следующем,
1953 году, однако вышел из печати четырьмя
годами позже). В статье, непосредственно
предшествующей очерку Голеа, Шеффер еще
раз возвращается к критике серийной
техники — но теперь уже лишь по
отношению к традиционным оркестровым
средствам. Его не устраивает, во-первых,
«разрушение тональных отношений,
которые были изначально связаны с
конструкцией и техникой игры на
инструментах», а во-вторых, та «неестественная
гимнастика», которой вынуждены
подвергать себя исполнители подобной
музыки. Тем не менее, мы встречаем здесь
совершенно неожиданное признание
Шеффера в изменении его отношения к
инструментальной серийной музыке, в
связи с прослушиванием им оркестрового
произведения Штокхаузена (по нашему
предположению, речь идет о
Formel, написанном
в 1951 году) в двух вариантах — в «живом»
звучании и в виде звукозаписи:
Фактически,
после сопротивления всеми моими силами
(...) несвоевременному
конструктивизму музыкантов, которые, по
моему мнению, не проявляли достаточно
внимания к экспериментальному
эмпиризму, я обнаружил неожиданное и,
если можно так выразиться, физическое
пересечение. Опыт, который я недавно
имел с произведением молодого немецкого
композитора Штокхаузена, докажет это. У
меня была возможность слышать эту пьесу
под мастерским жезлом Германа Шерхена в
превосходной студии Северо-Западного
Немецкого радио в Кельне. Я не мог
избежать отвращения, которое испытываю
обычно перед лицом любого атонального
произведения (...) . Ладно, в течение
десятидневной вступительной
конференция я повторно услышал
сочинение Штокхаузена, записанное на
пленку, через репродукторы. Часто в
конкретной музыке мне не хватает
захватывающего элемента концерта, но
его отсутствие было благословением,
которое позволило мне слышать
аккумулированные репродуктором,
играющим центростремительную роль,
различные инструментальные ноты,
«сваренные» вместе и формирующие
чрезвычайно блестящие и тонкие звуковые
объекты. Это явление было полно
последствий: абстрактная музыка
Штокхаузена встретилась с конкретным
опытом; это было более приемлемо, будучи
акустически смешанным и воспринимаясь
слухом, приученным, в течение нескольких
лет, рассматривать звуковые объекты как
таковые; это стало гораздо более
оправданным и более понятным; другими
словами, то же самое произведение
предстало в двух лицах: одно —
разрушительное, отвергающее прошлое, в
которое я верю постоянно (то есть, в
реальность гаммы), и другое — обращенное
в будущее (цит.
по: Palombini
C.
«Pierre Schaeffer, 1953: Towards An Experimental Music», in:
Music
and Letters,
74 (4): 542--57.)
Таким
образом, сам Шеффер оказывается здесь в
плену условностей восприятия: тот же
самый материал, перенесенный при помощи
звукозаписи в «звуко-объектную» сферу,
неожиданно вызвал у привычного у
подобным условиям слушателя совершенно
противоположную реакцию.
И все же,
если по отношению к музыкальной
практике Шеффер не столь категоричен, то
в области теории он остается
непреклонным. Это вовсе не означает, что
он не пытается найти факты
преемственности конкретной музыки по
отношению к предшествующему опыту
европейской музыки. Так, например, в
третьей части «Исследования конкретной музыки» (L’expérience concrète
en
musique - «Конкретный
опыт в музыке», 1952)
он пытается провести аналогии между
техникой монтажа и «петли» — и
политональными и полиритмическими
структурами Стравинского, а идею
тембрового развития внутри звукового
объекта представить в виде расширения
идеи шенберговской Klangfarbenmelodie.
Начиная с
1951 года, Шеффер все меньше работает как
композитор, целиком посвятив себя
теоретическим исследованиям.
Возглавляемая им Groupe
de Recherche
de Musique
concrte была
переименована в 1958 году, одновременно с
уходом Анри, в Groupe de
Recherche Musicale
(GRM).
Среди сочинений Шеффера более позднего
периода — Etude
aux objets (1960) и La
tiedre fertile (1975).
После
пятнадцати лет исследований, в 1966 году,
Шеффер публикует свой главный
теоретический труд —
«Трактат о
музыкальных объектах,
междисциплинарное эссе», состоящий из
семи книг, которые в сумме составляют
свыше 600 страниц. Не имея возможности
дать развернутую характеристику «Трактата...»
в рамках данной публикации,
остановимся лишь на некоторых ключевых
моментах его содержания.
«Книга
первая»
связывает генезис музыки с рождением
музыкального инструмента,
определяемого как каузальное
постоянство, как объединение звуковых характеров
(в сумме составляющих тембр), на основе
которых появляются разновидности
музыкальных значений
(например, звуковысотная парадигма).
В «Книге
второй» постулируются четыре функции
слушания. Первая функция, ouir
(слышать) —
устанавливать портретные (т.е.
основанные на подобии) связи между
репрезентацией и объектом (или значащим
и значимым): «скрипы на фоне шума».
Вторая функция, ecouter
(слушать) — устанавливать
указательные (причинные) связи между
репрезентацией и объектом: «скрипы
производятся несмазанными петлями».
Третья функция, comprendre (постигать) — устанавливать
символические (т.е. согласованные)
отношения между репрезентацией и
объектом: скрипы принимаются за
темперированные звуковысоты,
согласованные с метрикой
последовательных дробных операций. А
поскольку слышание, слушание, понимание
и постижение являются общепринятыми
значениями французского слова entendre
(буквально — «обращать чье-либо
внимание»), то французский язык
позволяет Шефферу обозначить словом entendre
«слышание, слушание, понимание и
постижение согласно чьему-либо
намеренному вниманию» (четвертая
функция). Таким образом, звуки можно
намеренно подвергать портретному,
указательному и символическому
восприятию. Далее, Шеффер вводит понятие
редуцированного
слушания: заключения
в скобки символических и указательных
связей как относящихся к традиционному
сольфеджио и к источнику или
причинности, что позволяет звуковому объекту раскрыть свою
сущность как агрегату формы
и материи. «Отлив ouir
сменяется приливом entendre, отлив entendre —
приливом ouir, и по ходу смены этих функций,
звуковые вещи раскрывают
себя как звуковые
объекты, чьи внутренние качества
отвечают как деталям
звукопроизводящего события, так и новым
абстрактным возможностям» (Palombini
C., Musique Concrete
Revisited, in:
The Twentieth-Century Music Avant-Garde, Larry
Sitsky, ed., Westport, 2000).
Таким
образом, Шеффер указывает на то, что
различия между звуковыми объектами и
традиционными музыкальными элементами
заключаются не только
в характере используемого материала, но
в способе его восприятия (имея в виду
как восприятие законченного сочинения,
так и восприятие материала самим
композитором в ходе работы над ним).
В «Книге
третьей» рассматривается различная
природа, с одной стороны, физических
измерений звука — частоты, времени,
амплитуды и спектра, а с другой —
субъективного восприятия высоты,
длительности, динамики и тембра; тем
самым доказывается непрочность для
восприятия «звуко-параметрической»
конструкции.
В
«Книгах» 4-7
изложены основы нового «Сольфеджио
звуковых объектов», ведущего «от
опытов со звукопроизводящими телами к
универсальной музыкальности при помощи
техники слушания» (Ibid.).
«Сольфеджио» включает в себя
предварительную стадию (звукоизвлечение
из различных источников и запись
полученных звуков), четыре основных
операции — Типологию
(от звуковой единицы к континууму), Морфологию
(семь критериев звукового объекта,
имеющих потенциальное музыкальное
значение в структурном контексте: масса,
динамика, гармонический тембр,
мелодический профиль, профиль массы,
грануляция и темп), Характерологию
(взаимодействие различных критериев
внутри звукового объекта и их
сопоставление со звукопроизводящим
событием) и Анализ (объекты,
обладающие специфическими критериями,
сортируются соответственно областям
восприятия: высоте, длительности и
динамике, для установления абсолютных
(cardinal)
или относительных (ordinal) шкал для каждого критериев), а также
итоговую стадию - Синтез:
использование в творческой практике
установленных структурных критериев
звуковых объектов.
Звуковые
объекты должны были, согласно основной
идее «Трактата...»,
явиться элементами
нового музыкального языка, подменив в
этой роли традиционные элементы —
музыкальные тоны, и их семантически
значимые объединения по вертикали (созвучия)
и горизонтали (мотив, фраза, мелодия и т.д.).
Именно стремление к построению
нового языка, лежащего за пределами
мышления музыкальными тонами («до-ре-ми»
- вот метафора, обозначающая границы
этого мышления; ее Шеффер неоднократно
использует, в частности, в предлагаемом
тексте), и было idee fixe
всей его жизни в музыке - будь то
практические эксперименты либо
теоретические изыскания. И именно этой,
главной своей цели Шеффер, по своему
собственному признанию, достичь не смог.
Более того, в конце своей жизни
он признает ее недостижимой.
На
протяжении всей творческой жизни Шеффер
испытывал постоянное неудовлетворение
от собственной деятельности, которая, по
его собственному выражению, не
позволяла ему «прийти к музыке». В
предлагаемом Интервью,
опубликованном за несколько лет до его
смерти[20],
он предстает глубоко разочарованным в
результатах своего многолетнего труда,
охватывая пессимистическим взглядом
судьбу не только созданного им
направления, но и положение в
современной музыке в целом.
Первая
важная тема, обсуждаемая в интервью — о
причинах обращения Шеффера к
экспериментам, о его критике
традиционного нотно-параметрового
мышления, пресловутого «до-ре-ми»?
Как ни парадоксально — но за этим
стоит стремление сохранить значение
традиционных музыкальных ценностей.
Экспансию 12-тоновой техники он метко
сравнивает в данном интервью с «германским
нашествием» в области музыки. Нужно,
разумеется, принимать во внимание
масштабы идеологического воздействия
Нововенской школы на европейскую музыку
середины века, чтобы понять, на чем
основан вывод Шеффера о том, что ничто
истинно музыкальное не возможно более в
пределах «до-ре-ми»,
а также верно оценить его представление
о современной западной музыке как «истощенной
и слабой» по сравнению с «цветущей
и всепобеждающей» наукой.
Роль
технологии в этот кризисный момент
истории музыки представляется Шефферу
двойственной («...счастливый
случай, вводящий в заблуждение»).
Имеются, с его точки зрения, два
диаметрально противоположных подхода к машине
как инструменту творчества. Первый,
избранный им самим, восходит к некоторым
положениям футуристов, а также
философской концепции «второй природы»:
«если машины теперь
составляют природу, то музыка нуждается
в машинах, чтобы изобразить эту природу».
Шеффер полемизирует с Булезом,
объявившим конкретную музыку своего
рода «поделкой» (bricolage),
приводя в качестве аргумента способ
создания древних инструментов из
природных элементов - тоже своего рода «изготовление
поделок» из подручных средств. Шеффер
представляет машину как естественное
продолжение эволюции инструментария,
как новое гибкое средство, новый
источник звука в руках музыканта-эмпирика,
мыслящего по-прежнему музыкальными
значениями. При втором,
противоположном подходе, машина
становится не столько источником звука,
сколько источником
самих музыкальных значений, которыми
в этом случае становятся значения из
области науки, например, физики: «частоты,
децибелы, гармонические спектры», и
точность которых становится своего рода
гарантом «объективности» музыкальных
значений. Нельзя не согласиться с
Шеффером, что данный подход является
прямым продолжением идеи 12-тоновой
музыки — стремления к научному
объективизму и теоретизированию. Шеффер
приводит один из примеров «доведения до
абсурда» этого
стремления — многопараметровую
синтезаторную музыку, отзываясь о ней
при этом в крайне резких выражениях.
Разумеется,
после подобного разграничения Шеффером
музыкального и немузыкального, встает
вопрос о его собственном понимании
термина «музыкальное значение». Именно
с этого момента — момента переключения
на проблему языка
музыки, — начинает проясняться тот
идеологический конфликт, который и
вызвал своего рода «отречение» Шеффера
в поздний период от своего собственного
детища - конкретной музыки. Не давая
нигде прямого определения «музыкального
значения», Шеффер, как бы изымая удачную
метафору из содержания заданного ему
вопроса, приводит пример «симметрии»
между миром семантических значений
звуков относительно их источников — и
миром музыкальных значений. Затем, он
приводит аналогию с двумя сторонами
вербального языка, действующими
параллельно, — фонетической и
лингвистической. Музыка как
семиотическая система, так же как и язык,
обладает некоторым уровнем
абстракции; дать определение этого
уровня Шефферу в рамках интервью не
удается: вместо этого он приводит
свободные аналогии с живописью,
пластическими искусствами и
литературой, при этом ухватывая, как
специфически музыкальные, лишь свойства
вариационности и возможности тембровой
перекраски. «Вооружившись» данным
набором сравнений, он пытается доказать
несоответствие произведений musique
concrète
музыке как семиотической системе:
конкретная музыка не достигает
необходимого для «языка» уровня
абстракции, оставаясь в промежутке
между материалом и языком — «игрой материалов и форм». Конкретная
музыка не несет в себе музыкальных
значений, не является музыкальным
языком, соответственно,
она не есть «музыка»
— эта мысль
Шеффера представляется нам здесь
наиболее важной.
И
все же в целом Шеффер не отрицает само
существование той деятельности, которой
он положил начало, не считает ее
полностью бесполезной и
бесперспективной: «Это часто бывает
скучно, но не обязательно безобразно. В
этом есть динамические и
кинестетические впечатления». О
некоторых этапах своей деятельности
Шеффер, как бы «между прочим»,
высказывается с удовлетворением: «когда
я делал «Этюды с объектами» - это была
хорошая работа, я делал то, что
намеревался сделать - моя работа над «Сольфеджио»
— не то чтобы я отрицал все, что делал —
было много трудной работы.» В сущности,
здесь он не стремится полностью «перечеркнуть»
конкретную музыку, а лишь указывает ей
свое место: в «нейтральной зоне» между
сферой «сырого звука», имеющего
имитационный характер, и собственно
музыкой —«областью языка». Таким
образом, основной вопрос, обсуждаемый
здесь — вовсе не «быть или не быть»
конкретной музыке, а о том, каковы
границы музыки в целом, возможно ли их
точно определить, изменяются ли они
исторически, в том числе повлияла ли на
их изменение эволюция
музыки в XX
веке.
Однако,
несмотря на пессимистичные выводы,
Шеффер остается верен себе в том, что не
оставляет современную ситуацию в музыке
без собственного пророчества. Его
неожиданный вывод — в музыке должен
наступить период нового «барокко»:
аналогия связана с характерным для
барокко синтезом более ранних методов и
стилей с возможностями нового
инструментария - синтезом не вполне
гармоничным, иногда «вычурным» и «грубо
сколоченным», но являющим собой
единственный путь к новому равновесию.
Интересно в этом отношении мнение
Шеффера о рок-музыке: он считает ее лишь
примитивом, и более того - «нечестным
примитивом», так как «он
достигается путем технологической
сложности». В качестве подлинного
примера синтеза Шеффер приводит
джазовую музыку, но сразу оговаривается:
это направление было сильно искажено
разрушительным влиянием цивилизации,
подчиненной законам экономики. Под
воздействием цивилизации гибнут и
локальные этнические культуры. Скорее
всего, данная цивилизация уничтожит
самую себя, и лишь затем, «из варварства,
вырастет ренессанс»...
Автор
предлагаемого интервью Тим Ходжкинсон,
в небольшом введении к нему (в переводе
оно опущено), подчеркивает актуальность
идеи Шеффера о пагубности
сциентистского подхода к музыке, об
опасности экономической экспансии «высоких
технологий» в мир искусства: позиция
Шеффера предстает в этом отношении как
своего рода «гуманизм в
технократическую эпоху». В связи с
ситуацией в современной французской
музыке, автор интервью отмечает. «Какова
же ситуация сегодня? Мы можем
недвусмысленно говорить о том, что целые
области музыки — в действительности,
изначально эстетической,
гуманистической деятельности в целом —
были пересажены в научные учреждения, с
их обширной индустриальной и
политической властью. Посмотрите на
сегодняшнюю Францию, с ее мега-долларовым
престижным центром научно-музыкальных
исследований IRCAM (Institut de recherche et coordination
acoustique/musique), расположенным под землей
рядом с Beauborg. Сцепление
государственной власти,
технократической элиты, продукции и
потребления иррациональной избыточной
технологии, коридоры, забитые
компьютерами выпуска прошлого месяца —
все это ясно свидетельствует, что
французское государство рассматривает
музыку достаточно серьезно, чтобы
охватить ее в своего рода взаимном
смертельном договоре с технизацией...
Это и есть
причина того, почему конкретная музыка
так важна сегодня; потому что все еще
существует возможность использовать
все параметры звука и по-прежнему
создавать музыку, а не псевдонауку...»
Introduction
à
la musique concrète
(«Введение в конкретную
музыку») /La
musique mecanisée:
Polyphonie 6: 30-52,
1950; A
la recherche d’une
musique concrte («К
исследованию конкретной музыки»), Paris,
Seuil,
1952;
Traité
des objets musicaux («Трактат
о музыкальных объектах»), Paris,
Seuil,
19661,
19772(Rev.ed.); La
musique concrete
(«Конкретная
музыка»), Paris: PUF, 1967; редакция и статьи в
специальных выпусках Revue
Musicale, в т.ч. Vers une
musique experimentale («К экспериментальной
музыке»), 1957; La musique et les ordinateurs («Музыка и компьютеры»), 1970, De
l'experience musicale a l'experience humaine («Музыкальный
опыт и человеческий опыт»), 1971, и др.
Clotaire
Nicole, биография, 1935, Seuil, Les enfants de coeur («Дети
сердца»), 1945, Seuil; Le
gardien de volcan («Хранитель вулкана»), Seuil,
Sainte-Beuve Prize в 1969 г.; L'avenir
reculons («Будущее вспять»)
, 1970, Casterman; Excusez-moi
je meurs («Извините, я умираю»), новеллы,
1981, Flammarion, Prelude,
choral et fugue («Прелюдия, хорал и фуга»), 1983, Flammarion, и др.
Schaeffer, Pierre. Dix
ans d'essais radiophoniques: du Studio au Club d'Essai: 1942--1952.
(Ориг.
изд.
1955). Arles: Phonurgia Nova/INA-GRM. Переиздание
1989 г. включает в себя приложение всех
сохранившихся записей
радиопостановок Шеффера того времени
(4 CD).
Подробнее о влиянии «радиофонического»
периода творчества Шеффера на его
будущие музыкальные эксперименты см.
в: Dack, J.
Pierre Schaeffer and the Significance of Radiophonic Art. In:
Contemporary Music Review (Harwood
Academic Publishers, 1994).
В 1951 году в
студии Шеффера, именуемой теперь Groupe
de
Recherche
de
Musique
concrte,
появляются новые устройства:
магнитофоны (в том числе
пятиканальный), морфофон (примитивная
звуковая «задержка»-эхо), два фоногена
(осуществляющих транспозицию), что
позволяло считать ее первой специально
оборудованной студией конкретной
музыки Было
также построено устройство
распределения звука в пространстве: Potentiometre
d’Espace,
управляющее четырьмя репродукторами (подробнее
об устройстве студии — см. в: Когоутек
Ц. Техника
композиции в музыке XX
века. –
М., 1966; Palombini
C.
Musique Concrete Revisited. In:
The Twentieth-Century Music Avant-Garde, ed.
Larry Sitsky, Westport, 2000.
С точки зрения раздвижения
границ звукового материала Шеффер
не являлся новатором: напротив, он
находился в русле экспериментов
первой половины века. Первенство в
использовании шумовых источников
принадлежит итальянским футуристам,
представившим первую законченную
концепцию «музыки шумов»,
соответствующей, по их представлениям,
новой, урбанистической эпохе (Russolo
L. L’arte
de rumori.–
Milano, ed.futuriste
dei «Poesia», 1916; repr. [Roma],
Carucci,
[1976]). К шумам обращались представители
музыкального брюитизма, а также
французский композитор Э.Варез,
которому принадлежит первое в истории
европейской музыки сочинение для
одних ударных инструментов («Ионизация»,
1930 г.). Шеффер также не был первым среди
тех, кто изменял скорость и
направление вращения пластинки,
изготавливал звуковые «петли» и т.п.
Подобные «фокусы» со звукозаписью не
только проделывались ранее в
различных европейских и американских
радиостудиях, но и были использованы в
музыкальной литературе: имеются в
виду, в частности, магнитофонная
фонограмма и «партии» двух патефонов
в «Воображаемом ландшафте №1» Дж.Кейджа,
созданном в 1939 году (см. Дубинец Е. Знаки звуков. – Киев, 1999. С.137).
К.Леви-Стросс писал о конкретной
музыке: «...ее
можно сравнить с живописью,
так как она имеет
непосредственную связь с феноменом
природы». (Lévi-Strauss,
C. The Raw and the Cooked. – N.Y., 1969, p.23). В
англоязычной литературе термин «sound
object»
нередко сопоставляют с термином «found
object»:
в теории абстрактной живописи — иной
конструктивный элемент по сравнению с
«предметной» живописью предыдущих
эпох (см., например, Russcol, H. The
Liberation of Sound. An introduction to electronic music.
– Englewood Cliffs (N.J.) – Prentice Hall, 1972. P.83).
Среди предшественников идеи objet
sonore
исследователи называют не только
Дебюсси, но и – парадоксальным
образом! — Веберна: звуковые
комплексы в ряде его серийных
сочинений («комплексная нота») могут
быть расценены как «индивидуальные,
изолированные звуковые события» (Russcol
H. The
Liberation of Sound.
– Englewood Cliffs (N.J.) – Prentice Hall, 1972, p.84).
Шеффер
скончался в августе 1995 г. В ноябре того
же года в Париже был создан Centre D'ètudes et
de
Recherche Pierre Schaeffer —
исследовательско-архивный центр,
основная цель
деятельности которого - хранение и
изучение наследия выдающегося
музыкального экспериментатора.
Тим
Ходжкинсон (Великобритания;
род. 1949) — изучал социальную
антропологию; музыкальный критик и
журналист. Как исполнитель-саксофонист,
выступает в составе ансамблей
экспериментальной импровизационной
музыки. Один из основателей (в
70-е годы) британской группы «Henry Cow»,
открывшей новое течение в авангардном
роке «rock
in opposition».
Интервью
(Т.
Ходжкинсон, 02.05.1986. Опубликовано в
журнале Recommended Records Quarterly, v. 2, #1, 1987;
перевод выполнен по данному изданию Ю.Дмитрюковой;
под редакцией С.И.Завражновой.)
От
автора перевода:
Интервью
проводилось по-французски в доме
Шеффера и было переведено автором на
английский язык при подготовке к
публикации (т.е. его письменная версия на
французском языке не существует).
Некоторые оттенки значений французских
слов, неизбежно исчезающие в английском
варианте, автор снабжает комментариями,
при необходимости приводя слово в
оригинальном виде; он также стремится
сохранить «документальность» интервью,
комментируя сопутствовавшие ему
эмоциональные состояния ([Смех] и др.).
Эти особенности сохранены в русском
переводе.
Обращает
на себя внимание образный язык интервью,
множество афористичных определений,
неожиданных сопоставлений и эпитетов: «истощенная
и слабая музыка — и цветущая и
всепобеждающая наука», «звук — словарь
природы» и др. Но есть среди них и
парадоксальные, спорные и не совсем
корректные (здесь могла сыграть роль и
адаптация текста автором интервью —
англичанином по происхождению, — и,
вероятно, не всегда точно подобранные им
аналогии в английском языке, а также
определенные сложности при переводе на
русский): например, Бах, используя
стилевые принципы различных эпох и школ,
создавал, по словам Шеффера, музыку «из
кусочков», а то, что он допускал
различные тембровые интерпретации
некоторых своих сочинений, ведет, по
мнению Шеффера, к выводу, что композитор
«не интересовался звучанием своей
музыки» (?!). В последнем случае
определенные трудности вызывает
перевод на русский язык
существительного sound
(и
соответствующего ему французского son):
помимо основного перевода «звук», оно
еще и обозначает конкретный звуковой
облик музыки, наиболее точно
выражающийся в русском языке
существительным слэнгового характера «саунд».
Смысл высказывания, как это ни странно,
может быть более точно передан при
помощи этого слова: «Бах не
интересовался «саундом» своей музыки».
Даже при подстановке словосочетания «звуковой
облик» смысл уже немного меняется.
Поэтому мы оставляем
вариант перевода «звучание», однако,
снабжая его данным комментарием.
TH:
Вы - писатель, мыслитель и звукоинженер
на радио. Это делает Вас, с точки зрения «Музыки»
с заглавной буквы «М», своего рода
аутсайдером. Считаете ли Вы, что в
моменты кризиса неспециалист играет
специфическую и важную роль? Я не знаю,
насколько это правильно, но мне кажется,
что в момент Вашего прихода в музыку, -
около 1948 года, - Вы были подобного рода
неспециалистом...
PS:
Да. Но один только случай не объясняет,
почему неспециалист вовлекается в
незнакомую ему область. В моем случае
имелись двоякие обстоятельства. Прежде
всего, я не был совсем не знаком с
музыкой, поскольку происходил из
семейства музыкантов: мой отец был
скрипачом, а мать — певицей. Я хорошо
учился — по теории, фортепиано,
виолончели, и т.д., так что я имел
некоторое образование. Во-вторых, я был
инженером-электроакустиком, работал для
Французского радио и поэтому
целенаправленно изучал звук и то, что
называют «высокой точностью» (high
fidelity) в
звуке.
В-третьих, после войны, в
период с 1945 по 1948 год, мы избавились от
германского нашествия, но мы не
избавились от нашествия австрийской
музыки, 12-тоновой музыки. Мы
освободились политически, но музыка
была по-прежнему под иноземным гнетом —
гнетом Венской школы.
Так
что имелись три обстоятельства,
заставившие меня экспериментировать в
музыке: я был вовлечен в музыку; я
работал с дисками для проигрывателя (позже
— с магнитофонами); меня ужасала
современная 12-тоновая музыка. Я сказал
себе: «Может быть, я могу найти что-то
другое... может быть, спасение,
освобождение возможно». Мы видели, что
никто не знает, что дальше делать с до-ре-ми,
и, может быть, надо искать за этими
пределами... К сожалению, мне
потребовалось сорок лет, чтобы прийти к
выводу, что ничто не возможно за
пределами до-ре-ми... Другими словами, я
потратил впустую свою жизнь.
TH:
Мы обязательно должны будем к этому
вернуться. А сейчас я хочу спросить Вас:
как Вы считаете, была ли неотъемлемая
связь между событиями, которые кажутся
одновременными — с одной стороны,
кризис традиционной музыки,
12 тонов и т.д., а с другой, новые
возможности, предлагаемые технологией,
возможности открытия новых континентов
звука. Иногда это кажется мне просто
счастливым случаем, а иногда — что
должна иметься определенная причина...
PS:
Я бы ответил, что это счастливый случай,
вводящий в заблуждение. Прежде всего,
меня не удивляет, что традиционная
музыка испытала своего рода истощение в
XX веке — нельзя забывать о том, что
многие музыканты начали выходить за
пределы традиционных тональных
структур. Дебюсси обратился к
шеститоновым звукорядам, Барток
использовал модальность; тональность,
казалось, была
истощена. Импрессионисты — Дебюсси,
Форе во Франции, — сделали несколько
шагов вперед. Затем, после
импрессионистов, наступил период
жесткости, период варварства, когда
делались попытки восстановить что-то
более прочное. Это воплотилось в Венской
школе. В этот момент Венская школа была
также вдохновлена научными идеями,
жесткостью, исходящей из дисциплины,
которая была не музыкой, а
алгебраическим уравнением.
Так
что мне кажется, что в период высоких
технологий может произойти одно из двух:
либо сама технология приходит во
спасение искусства, которое находится в
состоянии краха (это было моей отправной
точкой: конкретная музыка с
магнитофоном, теперь электронная музыка,
и т.д.), либо идеи из технологии, идеи из
математики, идеи с научной аурой, или
реальные научные идеи, в которых
усматривают нереальную связь с
искусством, ищущим свою дисциплину -
свои принципы организации (упорядоченности)
- вне самого себя, а не в пределах
источника своего собственного
вдохновения. Это совпадение: истощенная
и слабая музыка, — и цветущая,
всепобеждающая наука, и есть то, что
реально характеризует ситуацию в XX веке.
Что
я попытался сделать, в этом контексте, в
1948 году? Как сказал Булез, чрезвычайно
коварно (он - претенциозный малый, своего
рода музыкальный сталинист..., а я
анархист), этот случай — своего рода «bricolage»[1].
(Примечание: Это французское
существительное не имеет прямого
эквивалента в английском языке, но
близко к прилагательному makeshift («временное,
подручное [средство]»): идея в том, чтобы
быстро придумать, как по-новому
использовать вещи, первоначально
предназначенные для чего-то другого). Я
сохраняю этот термин не как оскорбление,
но как нечто очень интересное. В конце
концов, как возникла музыка? Через bricolage,
с тыквами, с корневыми волокнами, как в
Африке (я знаком с африканскими
инструментами). Затем люди сделали
скрипичные струны из кошачьих кишок. И,
конечно темперированный строй есть
компромисс и также bricolage. И этот bricolage,
который является эволюцией музыки, есть
процесс, который формируется человеком,
человеческим слухом, а не машиной, не
математической системой.
TH: Мне кажется, что существует
несколько возможных позиций в отношении
машины. Имеется нечто, что можно
проследить как своего рода пуританскую
традицию, где машина представляет некое
очищение, или совершенство, которого мы
сами достичь не можем, и поэтому
исключает человека. Но есть иная точка
зрения, при которой сохраняется
гуманистическая перспектива и иногда
происходит своего рода перенос
человеческих качеств на машину, и такое
отношение во всяком случае более сложно
и менее однозначно... Я мог бы привести
футуристов в качестве примера этой
второй точки зрения. Когда смотришь на
историю конкретной музыки, иногда
начинает казаться, что здесь есть
симметрия: с одной стороны — звук, и с
другой — система, причем конкретная
музыка находится на стороне звука. В
пределах этой двойственности,
согласились бы Вы, что конкретная музыка
воплощает более гуманистическую
позицию?
PS:
Да, конечно. Вы упоминаете симметрию, и я
хотел бы воспользоваться этим термином
как очень удачным подходом к этому. Но
какая симметрия? Я думаю, что мы говорим
о симметрии между звуковым миром и
музыкальным миром. Звуковой мир
природен, в том смысле, что он содержит
звуки, производимые инструментами —
Rumori-генераторами, конкретными
источниками — звуки голоса, звуки
природы, ветра и грома, и тому подобные. И
человеческое ухо, развивавшееся
миллионы лет, в большой степени
приспособлено для восприятия всех этих
звуков. Звук
- это словарь природы. Когда мы слышим
ветер, ветер говорит: «я дую». Когда мы
слышим воду, вода говорит: «я теку»... и
так далее. Шумы всегда считались
неотчетливыми, но это не так. В XVII
столетии шумы считались неприятными - но
шумы также ясно артикулированы, как и
слова в словаре. В
противоположность этому миру звука,
существует мир музыки, мир музыкальных
сущностей, того, что я называю «музыкальными
объектами». Они возникают, когда звуки
приобретают музыкальное значение.
Возьмем звук из любого источника: звук
скрипки, крика, стона, скрипящей двери, —
и всегда будет присутствовать эта
симметрия по отношению к звуковой
основе, которая сложна и имеет множество
характеристик, проявляющихся в процессе
сравнения в пределах нашего восприятия.
Если вы слышите скрип двери и мяуканье
кота, вы можете начать сравнивать их -
возможно, по продолжительности, или по
высоте, или по тембру. Таким образом,
если мы привыкли слышать [обычные] звуки
относительно их инструментальных
источников, звукопроизводящих тел, то
музыкальные звуки мы
привыкли воспринимать с точки зрения их
музыкального значения. Мы находим одни и
те же свойства у звуков, исходящих из
совершенно различных источников. Таким
образом, процесс сравнивания мяуканья
кота и скрипа двери отличается от
процесса сравнения ноты скрипки с нотой
трубы, о которых вы могли бы сказать, что
они имеют одинаковую высоту и
длительность, но различный тембр. Это и
есть симметрия между миром звука и миром
музыкальных значений.
TH:
Что именно является для Вас музыкальным
значением?
PS:
Лучшая аналогия – это язык, так как мы
говорим о музыкальных языках. Люди,
которые совместно используют один и тот
же язык, – французский, китайский или
какой-либо другой, – имеют те же самые
голосовые связки и производят звуки,
которые являются в своей основе теми же
самыми, поскольку они исходят из тех же
органов — горла и легких. И это есть
звуковой мир. Но те же самые звуки имеют
лингвистические значения, и это делает
их различными. Эти лингвистические
значения происходят от их роли в
пределах системы. Таким же образом,
музыкальное значение неотделимо от идеи
системы.
Но как это связано с вопросом о роли
машины в нашем современном мире? Это
совершенно иной вопрос, здесь речь идет
не о симметрии. Мы можем сказать, что
машина воздействовала двумя весьма
различными, даже антагонистическими
путями на наш современный мир.
Существует романтическая, романская,
иллюзионистская тенденция, которая
предполагает биологию машины, — то, о
чем говорили итальянские футуристы; она
восходит к бурям и лесным шорохам
романтизма, пасторальной симфонии,
изображению природы в музыке. Но,
конечно, если машины теперь составляют
природу, то музыка нуждается в машинах,
чтобы изобразить эту природу; наши леса
и сельские пейзажи _есть_ машины ... Но
есть иная, полностью противоположная
тенденция, которая видит машины как
средства создания не только звука, но
также и непосредственно музыкальных
значений. Многие исследователи, хорошо
понимая огромную важность музыкального
значения, обратились к физикам. Их
теперь интересовали частоты, децибелы,
гармонические спектры. При помощи
электроники они могли получить
прямой доступ ко всему этому и иметь
действительно точные и объективные
музыкальные значения. Но тогда
возникает другая симметрия, на сей раз
действительно тревожная. Когда вы
строите фарсовую машину для rumori, с
предметами, трущимися друг об друга -
подобно итальянцам, – с ведущим
барабаном и т.д., это совершенно
безобидно, так продолжается 10, 20 лет, это
- цирк, вполне безопасные небольшие
звуковые эффекты. Но когда вы ставите
поколения молодых музыкантов, как
случается сегодня, перед синтезаторами -
я имею в виду не те, что предназначены
для коммерческой музыки, а
действительно точные, где у вас есть
средства управления — одно для частоты,
другое для децибелов, третье для
гармонического спектра, – тогда вы
действительно влипли... [Смех].
TH:
К чему же тогда стоит стремиться, делая
музыку? Признание необходимости
музыкальных значений - это одно, но каков
Ваш выбор?
PS:
Надо напомнить музыкантам то, что Данте
написал на воротах Ада: Оставь надежду,
всяк сюда входящий...
TH:
Но если не входить?
PS:
Хорошо, тогда у вас нет никакой музыки.
Если вы входите, если вы хотите делать
музыку, вы должны оставить надежду.
Какую? На создание новой музыки.
TH:
То есть, новая музыка невозможна?
PS:
Да, музыка, которая является новой,
потому что исходит из новых
инструментов, новых теорий, новых языков.
Что же остается? Барочная музыка. Вас не
удивляет, что музыка, которая считается
наиболее возвышенной в западной
цивилизации, - такая как музыка Баха, —
называется baroque?
(Примечание автора интервью: во
французском языке термин «baroque»
означает «грубо соединенный,
сколоченный», помимо обозначения, как и
в английском языке, напыщенного,
вычурного стиля позднего Ренессанса[2]).
Причудливой. Даже ее современники
называли ее baroque,
т.е. «причудливая». Бах жил в момент
синтеза, в смысле инструментов, теории -
темперированная шкала и т.п. - и соединял
все вместе. Он использовал наследие
средневековья, нововведения в области
инструментов его времени, итальянскую
традицию, и он создавал музыку, которая
была столь ясно составлена из кусочков,
из частей, что ее назвали «барочной».
Одновременно традиционной и новой. И это
применимо к сегодняшнему дню: когда наши
современные исследователи откажутся от
своих смехотворных технологий, систем и
«новых» музыкальных языков и поймут, что
нет никакого пути вне традиционной
музыки, что мы можем перейти к «барочной»
музыке XXI века. Прототипом такой музыки
служит популярная музыка - это не значит,
что я оцениваю ее очень высоко. Джаз, рок,
и т.д, музыка «массовой» культуры — я не
говорю о хорошем джазе, изумительных
негритянских спиричуэлах, которые
являются полностью традиционными, – но
о той утилитарной музыке, которая широко
используется для танца, любви, и т.д; это -
«барочная» музыка, смесь электричества
и до-ре-ми...
TH:
То есть Вы считаете несущественным тот
факт, что мир, в котором мы живем,
изменяется, и что нам, может быть,
придется выражать что-то новое или
другое?
PS:
Ответ состоит в том, что мир не
изменяется.
TH:
Прогресса не существует?
PS:
Прогресса не существует. Мир изменяется
материально. Наука совершенствует
технологию и понимание. Но мир
человечества не изменяется. Нравственно,
мир сейчас и лучше, и хуже, чем он был. Мы
проигрываем средневековью или XVII и XVIII
столетиям в том, что имеем атомную
угрозу. Это смешно, что мы снова и снова
нуждаемся в радиоактивном облаке,
вырвавшемся из ядерной станции, чтобы
напомнить себе, что атомная энергия
исключительно опасна. И это показывает
слабоумие, глупость человечества.
Почему цивилизация, которая так
злоупотребляет собственной властью,
должна иметь или заслуживать нормальную
музыку?
TH: Хорошо, но
если Вы преданы музыке, Вы пытаетесь
открыть, поощрить хорошее в людях, - чем
бы оно ни являлось...
PS: Это было бы иллюзией. Я процитирую
Леви-Стросса, который повторял снова и
снова, что изменяются лишь вещи;
структуры, структуры человечества,
остаются те же самые - и способы,
которыми мы используем эти вещи. На этом
уровне мы - точно такие же, как пещерный
человек, который делает инструмент из
кремня, инструмент для выживания, но
также и смертельное оружие: мы не
изменились вовсе. Мир стал разве что
более опасным, потому что вещи, которые
мы используем, стали более опасными. В
музыке появились новые вещи —
синтезаторы, магнитофоны и т.д., но мы по-прежнему
имеем наши органы чувств, наши уши,
старые гармонические структуры в наших
головах, мы все по-прежнему рождаемся в
до-ре-ми - и не нам решать. Вероятно,
единственные отличия — этнические.
Имеются различные музыкальные культуры:
музыка древней Греции, например,
насколько мы можем ее себе представить,
музыка, перешедшая от евреев в
Григорианский хорал, музыка Индии, Китая,
Африки, — это разновидности, и все они -
до-ре-ми...
TH:
Вы пессимистичны относительно будущего
этих разновидностей - в смысле наличия
культурного империализма, который
уничтожает локальные музыкальные
культуры мира и заменяет их своего рода
«центральной» музыкой, которой движут
индустриальные и политические силы?
PS:
Я очень хорошо понимаю, о чем Вы говорите,
поскольку я работал на радио в Африке в
тот же самый период, в который создавал
конкретную музыку: я делал и то, и другое
одновременно. Я очень сильно боялся, что
эти уязвимые музыкальные культуры, - в
условиях отсутствия нотации,
звукозаписи, каталогизации, и
приблизительного характера
инструментов — будут утеряны. Мы с моими
коллегами начали собирать африканскую
музыку. На радио есть небольшой отдел,
возглавляемый г-ном Турейлем, который с
подлинной смелостью, в течение 17 лет,
систематически направлял экспедиции —
собрать подлинную африканскую музыку,
чтобы выпускать ее в записи.
TH:
Проблема в том, что записи покупаются в
Европе, а не в Африке. Трудно себе
представить, как можно восстановить
музыку в ее собственном контексте.
Фактически, мы можем обвинять себя в ее
присвоении. Имеется некоторая
двусмысленность в нашей мета-культурной
позиции, при которой вся культурная
география и история мира существует для
нашего удовольствия. Как Вы думаете, не
ослабевает ли в этой ситуация ощущение
реального значения культуры и
культурных артефактов? Множество людей
слушают этническую музыку самых
различных регионов. Влияют ли эти скачки
в пространстве и
времени на качество слушания?
PS:
Не думаю, что мы можем ответить на этот
вопрос о ценности окончательно, но мы
можем признать тот факт, что цивилизации
смертны. В музыке используются, к
сожалению, два принципа. Есть принцип
варварства. Тот факт, что западная
цивилизация вторглась в мир этих
первобытных людей, связанных со своими
древними локальными культурами - это,
конечно, было варварство, если не полная
беспечность. Варвары всегда считают
себя носителями цивилизации. Западное
варварство – это грампластинки, радио, и
т.д.
Кроме
того, имеется экономический принцип,
который состоит в том что грязные деньги
выбрасываются вслед за чистыми. Таким
образом, если варварство - триумф силы,
то грязные деньги - триумф экономики, в
метафорическом смысле ...
TH:
Я хотел бы теперь обратиться к идее, что
люди, рассеянные по всему миру, вероятно,
скорее в крошечных каморках, чем в
дорогих современных студиях, деловито
разрезают куски пленки, делают петли,
экспериментируют с магнитофонами, и я
хотел бы спросить Вас, не хотите ли Вы
сказать что-нибудь именно этим людям.
PS:
Прежде всего, я не могу перекладывать
ответственность на них. Я все это начал.
Думаю, они получают большое
удовлетворение, открывая мир звука. Да,
мир музыки, вероятно, замкнут в пределах
до-ре-ми; но я хочу сказать, что мир звука
намного больше его. Давайте возьмем
пространственную аналогию. Живописцы и
скульпторы занимаются пространством,
объемом, цветом и т.д, но не языком. Это -
забота писателя. Та же самое верно и для
звука. Конкретная музыка, собирая звуки,
создает звуковые произведения, звуковые
структуры, но не музыку. Мы не должны
называть музыкой вещи, которые являются
просто звуковыми структурами...
TH:
Разве для звукового произведения
недостаточно иметь систему, чтобы стать
музыкой?
PS:
Вся проблема при работе со звуком
заключается в том, чтобы избежать
драматичности. Я слышу пение птицы, я
слышу скрип двери, я слышу звуки
сражения; начинаешь уходить от этого.
Находишь нейтральную зону. Так же, как
живописец или скульптор уходит далеко
от модели, перестает изображать лошадь
или раненого воина и приходит к
абстракции. Красивая скульптурная форма,
как форма яйца, оранжерея, звезда. И если
продолжать это движение к абстракции,
приходишь к графике форм букв в
письменном языке. А в музыке — приходишь
к музыке. Имеется, таким образом,
градация между областью «сырого» звука,
который начинается с подражания, как в
изобразительных пластических
искусствах, — и областью языка. Между
ними имеется зона градаций, которая
является областью «абстракции» в
пластических искусствах и которая не
является ни языком, ни моделью, но игрой
форм и материалов.
Есть
много людей, работающих со звуком. Это
часто бывает скучно, но не
обязательно безобразно. В этом есть
динамические и кинестетические
впечатления. Но это - не музыка.
TH:
Но где именно тот момент, в который нечто
превращается в музыку?
PS:
Это трудный вопрос. Если бы у Вас был
полный ответ, Вы были бы пророком.
Традиционное доказательство – это то,
что музыкальная схема может быть
выражена в звуке более чем одним
способом. Например, Бах иногда сочинял,
не указывая инструменты: его не
интересовало звучание его музыки. Это -
музыка: схема, допускающая несколько
реализаций в звуке. Момент, в который
музыка показывает свою истинную природу,
заключается в древнем принципе темы с
вариациями. Вся тайна музыки
объясняется именно здесь. Возможны
вторая, третья, четвертая вариации, и все
они сохраняют одну и ту же идею,
заложенную в теме. Это - доказательство
того, что одна музыкальная идея может
иметь различные реализации.
TH:
Слушаете ли Вы рок-музыку?
PS:
Моя 18-летняя дочь слушает много, на
нижнем этаже, так что я слышу то, что
доносится из-за ее двери. Этого
достаточно.
TH:
Я думаю, что рок-музыка также
существенно обусловлена технологиями, в
том смысле, что она выросла вместе с
технологией звукозаписи и средств
массового производства дисков.
PS:
Что меня поражает - это насилие звука,
насилие, которое, кажется, предназначено
для того, чтобы достигнуть не только уха,
но также и кишечника. В определенном
смысле это действует, по-видимому, как
наркотик. Настоящая музыка - тонкий
наркотик, но на самом деле ее нельзя
назвать наркотиком, потому что она не
огрубляет, а возвышает. Эти две
характеристики рока — насилие звука и
функция наркотика — сосуществуют на
основе музыкальной формулы, которая
обеднена. Меня это не интересует. Скорее
я чувствую, что это говорит о ностальгии
среди сегодняшних молодых людей, о
желании возвратиться к дикости,
возродить примитив. Кто в наше время
может обвинять их? Примитив - также
источник жизни. Но музыкальные средства
здесь выглядят печально и довольно
болезненно. Это - нечестный примитив,
поскольку он достигается при помощи
технологической сложности. Это - обман.
TH:
Но Вы узнаете в нем методы конкретной
музыки, например, в идее продукции (production)
— поскольку этот термин используется в
индустрии звукозаписи, - этой
концептуализации различия между
звуковым источником и процессом, между
источником и манипуляцией - когда
продюсер может расценивать записанный
звук просто как сырье для процесса
радикального преобразования, но конечно,
наиболее часто, для создания успешного
товара? Допускаете ли Вы существование
какого-либо гуманистического
потенциала в том случае, если эмпиризм,
bricolage рока, не полностью
подчинены коммерции?
PS:
Мы уже упомянули пессимизм, и я должен
сказать, что расцениваю нынешние
времена как плохие. Такое ощущение, что
мы жертвы идеологий - часто совершенно
несовместимых. Например, идеология
научной строгости, и в то же самое время
— идеология случайности; идеология
власти, технологии, импровизации,
легкости - технологии, заменяющей
вдохновение. Если сравнивать это с
джазом, например, в его исторически
плодотворный период, необычайный
расцвет американской музыки в тот
момент, когда европейское до-ре-ми было
внезапно захвачено африканцами,
создававшими выразительные формы... это
было грандиозно. Теперь, когда думаешь
об этом, десятилетиями позже, эта
раздутая, жадная и варварская культура,
ожесточенная деньгами, машинами и
рекламой, все еще живет за счет той
драгоценной жилы... да, надо признать, что
некоторые периоды — просто мерзкие,
отвратительные, и что этот период
является таковым. Единственная надежда -
на то, что наша цивилизация в
определенный момент погибнет, как
всегда случается в истории. Тогда из
варварства вырастет ренессанс.
TH: Кое-что из того, что Вы говорили о
рок-музыке, напомнило мне об эссе Адорно
о джазе, о регрессивной, ностальгической
функции, и так далее. Все же Вы находите
джаз, в его лучший период, грандиозным.
PS:
Но примитивный американский джаз был
очень богат, он не был хорошо изучен, но
он был роскошно изобретателен, в
способах выражения в звуке, в своем
интонировании; чем я действительно
восхищался, когда был там в первый раз,
после освобождения
[т.е. окончания войны - прим. пер.], в 50-е
годы, – это опереттой, Кармен Джонс —
превосходная музыка, я не могу вспомнить
названий, но великая музыка, - Гершвин,
конечно...
TH:
У меня создалось впечатление, что в 40-е и
50-е годы Вы были оптимистичны
относительно результатов Вашего
музыкального проекта. Был ли какой-то
определенный момент, в который Вы
полностью изменили свое отношение к
этому проекту?
PS:
Должен сказать честно, что это —
наиболее важный вопрос из тех, что Вы мне
задали. Я боролся, как демон, в течение
всех лет открытий и исследований в
конкретной музыке; я боролся против
электронной музыки, которая была другим
подходом, системным подходом, в то время
как я предпочитал экспериментальный
подход, действительно работая со звуком
непосредственно, эмпирически. Но в то же
самое время, защищая музыку, над которой
работал, я сам ужасался тому, что делал. Я
чувствовал себя страшно виноватым. Как
снисходительно говорил мой отец,
скрипач: чем ты занимаешься, мой
маленький мальчик? Когда же ты
собираешься заняться музыкой? И я,
бывало, говорил - я делаю, что могу, но я
не могу этого сделать. Я был всегда
глубоко несчастен в том, что делал. Я был
счастлив, когда преодолевал большие
трудности - мои первые трудности с
пластинками, когда я работал над «Симфонией
для человека соло», мои первые трудности
с магнитофонами, когда я делал «Этюды с
объектами» - это была хорошая работа, я
делал то, что намеревался сделать - моя
работа над «Сольфеджио» - не то, чтобы я
отрицал все, что делал - было много
трудной работы. Но каждый раз мне
приходилось испытывать разочарование
от того, что я не пришел к музыке. Я не мог
добраться до музыки - того, что я называю
музыкой. Я считаю себя исследователем,
ищущем путь на дальнем севере, но я не
мог его найти.
TH:
Значит, Вы обнаружили, что пути нет.
PS:
Пути нет. Путь - позади нас.
TH:
Именно в этом контексте мы должны
понимать, почему Вы так мало написали
музыки после тех первых лет?
PS:
Меня очень хорошо принимали. Я не
испытывал социальных проблем. Эти
успехи увеличили мое бремя сомнения. Я -
противоположность преследуемого
музыканта. На самом деле, я не считаю
себя настоящим музыкантом. В словаре
меня называют музыкантом. Это меня
смешит. Хороший исследователь - вот кто я
такой.
TH:
Было ли время, проведенное Вами в Африке,
каким-либо специфическим образом
связано с изменениями Вашего отношения
к музыке?
PS:
Нет. Я всегда очень интересовался
музыкой Азии, Африки, Америки. Я полагал,
что следует изучать музыку на всей
планете.
TH:
Думаю, что мы сказали достаточно.
PS: Да, думаю, что мы сказали
очень много.
Разочарование
Шеффера в своих идеях было, с одной
стороны вызвано
определенной суммой индивидуальных
обстоятельств: это и постоянная
творческая рефлексия, и слабость
технической базы в период его ранних
экспериментов, но в гораздо большей
степени — своеобразный эстетический «аскетизм»
и все возраставшая обособленность его
позиции. В сущности, «анархист» Шеффер
сам по себе находился в невероятно
строгих рамках: его борьба против «призрака
науки» не допускала никаких
компромиссов, и его позиция, как в
отношении метода композиции, так и в
отношении новых технических средств,
нередко была слишком консервативной.
Известно о первоначально негативном
отношении Шеффера к магнитофону; он
также решительно отрицал возможности
использования компьютера в музыке. Ему
не суждено было дожить до времени
расцвета цифровых аудио-технологий,
позволяющих соединить высокую точность
операций и качество звука с
возможностями эмпирического поиска и
гибкостью творческого процесса, о
которых он так мечтал.
С другой стороны,
подобная смена позиции Шеффера,
несмотря на его видимую удаленность от
музыкальных течений последних
десятилетий и своего рода «уход в себя»,
выглядит вполне созвучной идейному
климату конца столетия, когда эпоха
резких обновлений и кардинальных
переустройств — как в жизни человека и
общества, так и в искусстве, —представляется
уже полностью в прошедшем времени. В
этом случае конкретная музыка (вместе со
своим «антиподом» — додекафонией!)
оказывается в общем ряду попыток «революционного
преобразования» в музыке, предпринятых
в первой половине и середине века, и
оставленных их же создателями в 70-80-е
годы. Именно в
этот период уменьшается творческая
активность ряда представителей
послевоенного музыкального авангарда,
вплоть до полного отказа от творчества (нечто
подобное произошло и с Шеффером).
Некоторые композиторы кардинально
пересматривают собственные
эстетические взгляды, что находит
отражение в совершенно иной стилистике
их музыки. Набирают силу течения «поставангарда»,
укрепляется эстетика минимализма, «неоромантизма»
или «новой простоты»; в большей или
меньшей степени эта тенденция
проявляется во всей европейской музыке (в
США она зародилась несколько ранее). В
данном контексте переориентация
эстетических взглядов Шеффера,
отрицание им возможности революции в
искусстве и прогресса цивилизации
предстает не как момент индивидуальной
эволюции, а как весьма характерный признак «новой
эпохи».
В контексте музыки XX
столетия в целом, musique
concrète
следует считать скорее «примитивным
первоначалом»: художественные
результаты первых «конкретных» опусов
весьма скромны.
При этом, конкретной музыке было суждено
сыграть ключевую роль в историческом
музыкальном процессе: именно она, наряду
с ранними опытами электронной и «магнитофонной»
музыки, указала путь сотням музыкантов,
работающим в различных жанрах «студийной»
музыки: это и область экспериментальной
электроакустической музыки, и так
называемое «радиофоническое искусство»
или радио-арт, и специфическое
направление «звуковой поэзии»,
получившее, после своего расцвета в
эпоху футуризма и последующего упадка,
новое рождение в период распространения
звукозаписывающих технологий.
Начиная со второй половины 50-х годов,
имеет место тенденция синтеза в области
методов и средств музыкальной
технологии, ведущая к фактическому
объединению в 80-90-е годы методов работы с
«конкретным» (естественного
происхождения) и «электронным» (синтезированным)
материалом. Но несмотря на это,
современная электроакустическая музыка
представляет собой, в сущности,
совокупность нескольких эстетических
течений, корни которых произрастают из
имевшей место полвека назад полемики
между экспериментаторами-эмпириками и
структуралистами – сторонниками «научного»
подхода. Антагонизм во взглядах Шеффера
и композиторов послевоенного авангарда
(и прежде всего - Булеза и Штокхаузена) на
пути использования технологии в музыке
оказал непосредственное влияние на
различие эстетических установок
нескольких ведущих французских центров
музыкальной технологии: IRCAM,
возглавляемого Булезом в течение
полутора десятков лет, INA-GRM
(Institut National de l'Audiovisuel – Groupe de Recherche Musicale) —
прямого потомка исследовательской
группы Шеффера; антисциентистский
подход в целом характерен и для
установок Института экспериментальной
музыки в г.Бурж (IMEB,
бывшая Группа электроакустической
музыки), руководимого учениками Шеффера
(в 1968-69 гг. он вел факультативный курс в
Парижской консерватории).
Значение теоретических
трудов Шеффера, безусловно, еще не
оценено в полной мере. В некоторых
работах по эстетике и теории «искусства
звука» (sonic
art) последних
десятилетий
происходит возвращение, своего рода
реабилитация идей Шеффера, в частности,
провозглашаемого им на протяжение всего
исследовательского пути приоритета
слуха в выстраивании любой музыкально-теоретической
системы: «Сегодня
нам необходимо постоянно доказывать
приоритет слухового опыта в музыке. [...] Идеи,
взятые напрокат из немузыкальных
дисциплин, являются всеобщими и могут
быть полезными, но пока идея не
проверена насквозь и не смягчена слухом,
всегда остается возможность того, что
слушатель будет отторгнут» (D.Smalley,
1986. P.135).
«Инженер
по необходимости, писатель по профессии,
композитор по случайности»,
«Ни исследователь,
ни композитор, ни писатель»,
«писатель по склонности, музыкант по
наследству, политехник по принуждению,
новатор по темпераменту»,
всю жизнь страдавший от одиночества и
непонимания коллег — и при этом
оказавший влияние на десятки тысяч
музыкантов во всем мире,
экспериментатор-эмпирик — и
одновременно автор объемных
теоретических трудов, радикальный «музыкант-анархист»
— и разочарованный эстетик-аскет,
полный рефлексии, — все это Пьер Шеффер,
радикальный и влиятельный «дилетант»,
сыгравший в
истории музыки XX
века одну из самых уникальных ролей.
В ряду
наиболее значительных произведений в
жанре конкретной музыки следует
упомянуть сочинения Эдгара Вареза:
имеются в виду его фонограмма к его
композиции «Пустыни» для оркестра и
магнитофонной ленты (1950-54) и «Электронная
поэма» (1958). Кроме того, именно Варезу
принадлежит термин corp
sonore, весьма
близкий по значению шефферовскому objet
sonore.
Об
эстетических
установках IRCAM
см. в:
Musical Thought at IRCAM. / Contemporary Music Review, vol. 1, part
1. Issue editor T.Machover. – L., Harwood Academic Publishers, 1984;
GRM – см. Bayle, F., Musique Acousmatique,
propositions...positions, Buchet/Chastel, Bibliotheque de
Recherche Musicale, Paris, 1993.
IMEB - см.
в сб.: Electroacoustic Music: Aesthetic Situation and Perspectives. /
Proceedings volume 1 of the work of the International Academy of
Electroacoustic Music / Bourges, June 1995. — Paris,
Acteon-Mnemosyne, 1996.
Wishart T. On
Sonic Art. – L., 1985; Smalley D.
Spectral Morphology and
Structural Processes. // The Language of Electroacoustic Music.
Ed.by S.Emmerson, – L., 1986, pp. 131-153; и др.
Le Monde, 1995,
ц.по:
Palombini
C. Musique Concrete Revisited. In: The
Twentieth-Century Music Avant-Garde, ed. Larry Sitsky, Westport,
2000.
Pierret, M. Entretiens avec
Pierre Schaeffer.. Paris:
Belfond. 1969.
|