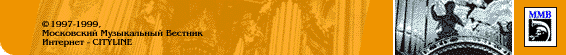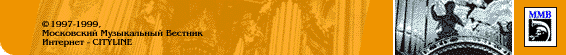| |
Модест Чайковский и авторское
право либреттиста.
"...Ты
имел несчастье родиться с душой
художника..."
"Настоящая
твоя сфера - беллетристика..."
"Понимание
- великая вещь... Благодаря этому
пониманию ты никогда не напишешь ничего
пошлого и ничего фальшивого..."
Это -
из обращений Петра Ильича Чайковского к
брату Модесту. Десятилетняя разница в
возрасте не мешала их душевной дружбе,
духовной близости и тесному творческому
сотрудничеству. В четыре руки играли они
на рояле, в четыре руки сочиняли
произведения для музыкального театра.
Модест
Ильич Чайковский - драматург, либреттист,
переводчик, рецензент - был заметной
фигурой в культурной жизни России рубежа
веков. Он родился в тогдашней Пермской
губернии, в Алапаевске, где три года жила
семья Чайковских. Окончил то же Училище
правоведения, что и старший брат.
Некоторое время служил по судебному
ведомству в Симбирске. Рано стал
сотрудничать в газетах. Занимался также
педагогикой: - разработал специальную
систему занятий с глухонемыми.
В 1890-е
годы в российских театрах шли не без
успеха пьесы Модеста Чайковского. Список
их достаточно внушителен: "Благодетель"
("Борцы"), "Похмелье", "День в
Петербурге", "Предрассудки", "Боязнь
жизни"... В "Лизавете Николаевне"
играла Пелагея Стрепетова, в "Симфонии"
- Мария Ермолова, Мария Савина. О
последней из названных пьес ("умной,
интеллигентной"...) с похвалой
отозвался Антон Чехов.
Среди
его переводческих трудов - с четырех
европейских языков - шекспировские
сонеты и "Ричард II", стихи
итальянского поэта Дж. Кардуччи и
трактаты немецкого философа К.Фишера,
тексты кантат Баха и "Новая биография
Моцарта" А.Улыбышева (в оригинале
написанная по-французски).
Эти и
другие виды литературного творчества
позволили Модесту Ильичу пользоваться
уважением и авторитетом у современников.
Для потомков же более драгоценна его
общественная деятельность. Именно ему мы
обязаны профессионально-безупречным
сохранением памяти о Петре Ильиче,
возникновением научно-исследовательского
центра, мемориального музейного
комплекса в Клину. Сразу после смерти
композитора М.И. немедля выкупил (совместно
с племянником Вл. Давыдовым) дом брата,
сосредоточил тут - и систематизировал -
рукописное наследие, первым начал
обработку богатого архива. Собрав семь
тысяч писем (и переведя иноязычные на
русский язык), записав по горячим следам
воспоминания современников - от Германа
Лароша до Фанни Дюрбах, он создал
капитальный трехтомный труд "Жизнь
Петра Ильича Чайковского". Далее он
занялся изданием критических статей, "музыкальных
фельетонов и заметок" композитора.
Годом его смерти (1916) датируется
подготовка к печати переписки
Чайковского с Сергеем Танеевым.
Следующие поколения музейных работников
шли уже по пути, намеченному первым
хранителем Дома. Его материалами -
понятно, дополняя, обогащая,
пересматривая и развивая их - пользуются
в Клину и поныне.
Инициатива
М.И. беспрецедентна. Объем выполненного
им огромен. Важность такой
целенаправленной, оперативно-своевременной,
на редкость тщательно собирательской и
исследовательской деятельности трудно
переоценить (из всех выдающихся коллег-современников
Чайковского только Римскому-Корсакову
достались столь же энергично действующие
родственники). Уже один этот общественно
значимый подвиг по увековечению памяти
великого музыканта мог обеспечить
преданному брату почетное место в
сознании благородных россиян.
Однако
есть еще один существенный прорыв
младшего Чайковского в вечность. Если
работы драматурга не пережили своего
времени, то иная судьба была уготована
работам оперного либреттиста, тем из них,
которые состоялись как оперная партитура.
Крепко завязанные в один нераздельный
узел с музыкой, великой или просто
добротно-мастеровитой, они уже неотрывно
приставали к нотному тексту, составляли
вместе с ним общее целое. М.И. сотрудничал
с Антоном Аренским ("Наль и Дамаянти")
и с Арсением Корещенко ("Ледяной дом").
К нему обратился многолетний шеф
Мариинского театра, убежденный
пропагандист оперного творчества
Чайковского Эдуард Направник, приступая
к своей собственной опере "Дубровский".
С главой другого - московского Большого -
театра Сергеем Рахманиновым он писал "Франческу
да Римини". И, конечно, самое основное -
ему посчастливилось готовить либретто
для двух последних опер гениального
брата (упомянем в скобках, что при
благоприятных обстоятельствах они могли
бы быть и не единственными; кроме того, М.И.
принимал некоторое участие в разработке
сценария балета "Щелкунчик").
Петр
Ильич сочинял "Пиковую даму", как
всем известно, во Флоренции. Откуда он,
работая с лихорадочной быстротой, слал
письмо за письмом своему соавтору, торопя
его, отзываясь на тот или иной присланный
кусок либретто, что-то сразу принимая, а
что-то рекомендуя взамен. Все
складывалось удивительно согласованно.
"То, что писал Модест Ильич, может
считаться как бы написанным Петром
Ильичом", - замечал Г.Ларош. Со своей
стороны, и М.И. умел подсказать,
вдохновить, чутко предвосхитить. Из
переписки и других документальных
свидетельств процесса создания музыки
ясно видно, как превращалось либретто "для
Н.Кленовского" (этому композитору и
дирижеру, ученику П.И., оно первоначально
и предназначалось) в либретто "для
Чайковского", какие советы давал П.И.
("избегай многословия...") и какой
оценки он в результате удостоил брата
("...либретто превосходно, и видно, что
ты знаешь музыку и музыкальные
требования...", "Модест молодец").
Со своей стороны М.И. утверждал: "Воспоминание
об этом сотрудничестве навсегда
останется у меня в памяти как одно из
лучших в жизни".
То же
вскоре повторилось и с "Иолантой":
братья работали быстро и без разногласий.
"Нужно сказать, что либретто в полном
смысле слова великолепно", "...отлично
сделано, а стихи местами очень, очень
красивы", - отмечал П.И.
Временной
интервал между обоими сочинениями -
трагедийным оперным романом и камерной
лирической повестью - совсем мал, но можно
увидеть тут отражение той общекультурной
российской ситуации, когда на смену
великим романистам начали приходить
великие рассказчики. Впрочем,
воздержимся от вскользь затрагиваемой
классификации шедевров. Главное, что и
"Пиковая дама", и "Иоланта",
перешагнувшие столетний возраст, давно
стали классикой мирового музыкального
искусства. И зажили самостоятельной
театральной жизнью. "Иоланта" почти
ничего не растеряла на этом пути. Разве
что подправлялись в советское время "идейно-чуждые"
строки: вместо "Первенца творенья" (Божьего)
редакторы ставили "Дар природы вечной"
и т.д. (о тяге к пересмотру концепции - чуть
позже). Зато "Пиковая дама"...
Опера
эта по-своему знаковая. Ее воздействие во
все времена на умы и души - композиторов
ли, певцов, дирижеров, прославленных
мастеров, неискушенных слушателей - было
поистине гипнотическим. После нее
художник уже иначе думал "о Летнем саде,
о ранней петербургской грозе, о Зимней
канавке, обо всем том, что... благодаря
музыке, стало еще сильнее хватать за душу"
(А.Бенуа). Великая, аккумулирующая,
инспирирующая, многоаспектная,
многоуровневая, она неизменно идет в
большинстве оперных театров мира и во
всех театрах России. Десятки раз записана
(знаю, в частности, интереснейшие
интерпретации итальянскими артистами на
итальянском языке). Она становилась
предметом неисчислимых научных
исследований и публицистических очерков,
- причем не только музыковедческих, но и
литературоведческих, философских,
психоаналитических и пр. И именно "Пиковой
даме" досталось принять всевозможные
удары - справа, слева, снизу, - оказаться
средоточием открытых и тайных творческих
дебатов, выдержать насилие
ниспровергателей и эксперименты
реформаторов.
Удобным
поводом к пересмотру смысла и
драматургии оперы стала проза Пушкина,
само существование пушкинского гения.
Правда, специалисты издавна убедительно
доказывали - и принуждены доказывать до
сих пор, что "Пиковая дама" Пушкина и
"Пиковая дама" братьев Чайковских -
два разных художественных организма, и
мерить их следует по их собственным
эстетическим законам. Но это
принципиальное отличие не останавливает
тех, кто одержим желанием подчинить любое
явление своей авторской воле. Основная
фигура среди них - появившийся в ХХ веке
третий могущественный соавтор оперного
произведения - театральный режиссер.
Крупномасштабная
"пушкинизация" оперы началась со
знаменитого спектакля Всеволода
Мейерхольда. Именно он утвердил в оперном
театре мысль о самоценности,
самодостаточности режиссерского взгляда,
о праве, и даже, может быть, обязанности
постановщика в угоду собственной
концепции вольно обращаться с оперным
текстом, как вербальным, так и
музыкальным. Эту мысль быстро подхватили
коллеги. Пренебрежительное отношение к
смыслам "Пиковой дамы" -
концепционным, музыкально-драматургическим,
интонационным, фабульным - оправдывалось
пиететом перед Пушкиным ("Вернуть к
первоисточнику!"), а режиссерским
амбициям помогал авторитет Мейерхольда (да
и кто согласится, что "Quod licet sovi, non licet bovi").
После
шумной истории с замыслом Юрия Любимова
возражения против режиссерского
произвола и вовсе стали невозможны:
всякое этическое и эстетическое
несогласие с радикальными
переакцентировками в оперном тексте
выглядело бы как, не дай Бог, недостойная
травля, грубое нарушение свободы
творчества современного художника. Все
же рискну такое несогласие высказать.
Недавно осуществил собственную фантазию
на темы "Пиковой дамы" многими
лаврами увенчанный Лев Додин. О его
спектакле - показанном в Париже,
Амстердаме, Флоренции - газета "Мариинский
театр" уже писала. Полагаю, не только
меня удивило, что в наше время усиленной
заботы об аутентичности ("чтоб все
звучало как при жизни автора!") можно
снова и снова беспрепятственно резать и
перекраивать партитуру, передавать
реплики одного персонажа другому, вместо
"ура, ура!" петь принципиально
противоположное по смыслу "молись,
молись" и т.д. Явление это -
знаменательное: обычно режиссеры-новаторы
с их "бьющей через край фантазией"
все реже теперь замахиваются на сам
нотный текст. В случае же с "Пиковой
дамой", поставленной в ее родном городе
Флоренции, понимаешь: если даже
композитор, имеющий реноме
непревзойденного мастера формы, "направленной
на восприятие" (Б.Асафьев),
хрестоматийно признанный оперный
драматург подвергается бесцеремонно-вольному
обращению, то на что может рассчитывать
его сравнительно более беззащитный
соавтор-либреттист?
Со
школьной скамьи помню: оперный
либреттист - вечный "мальчик для битья".
У него редко бывала презумпция
невиновности, шла ли речь о советской
опере (перечитайте материалы любой
острой дискуссии!), о Моцарте ли ("Да
Понте не поднялся до него", "Шиканедер
не поднялся..."), о Глинке ли (у "Жизни
за Царя" и "Руслана" - пресловутые
семь нянек)... Тем как бы оправдывалась
необходимость внедрения в негодный текст,
забота о помощи и исправлении грехов. Не
составляли исключения и те композиторы,
которые были сами себе драматургами-либреттистами.
Они тоже находились постоянно под
подозрением, что навредили собственному
детищу: "вмешались ретрограды и
заставили дописать" (Мусоргский), "вмешались
власти и заставили доработать" (Прокофьев),
"пребывал в плену всяческих
заблуждений и устарел" (Вагнер).
Между
тем, кто вправе провести демаркационную
линию между либретто и партитурой, между
идеей и нотной ее фиксацией, между духом и
буквой, замыслом сценарным и замыслом
музыкально-драматургическим? Материя эта
тонкая, надави - сломаешь. Но ведь
согласимся, что оперный текст в широком
смысле слова - это и ситуация, и характер,
и интонация, и сюжет, и тембровое решение,
и общая драматургия, и даже ремарки - и все
это в непостижимой, таинственной
нерасторжимости. Драматург-либреттист
умирает в драматурге-композиторе, но
продолжает жить в партитуре. Поэтому
несостоятельным выглядит часто
встречающееся в театральной практике
презрительное отталкивание сюжетных
коллизий от музыки, которой как раз и
клянутся в верности: "я так ее слышу".
Что ж, музыка - неконкретна, "несказанна",
слышим мы ее по-разному. Я могу сколько
угодно внутренне сопротивляться, когда
вижу постановки опер Моцарта или
Прокофьева сплошь в грязно-сумрачных
тонах. А мне возразят: где предписано, что
ре мажорная музыка - скорей золотого,
оранжево-солнечного света? И как нам
доказать человеку, не откликающемуся на
заложенные в интонации, в вокально-инструментальном
образе - жест, пластику поведения, что
Онегин не может скакать и валяться на
полу? Боюсь, у невнимательных к тонкостям
первоисточника интерпретаторов музыка
вовсе не предстает очищенной от "нежеланных
наслоений". Насильственный отрыв
Вагнера-композитора от Вагнера-драматурга
совсем не идет на пользу общему делу и
партитуре в частности. Идеально-возвышенное
низводится до будничного, повседневного,
мифологические обобщения обытовляются,
мельчают, идеи самопожертвования,
искупления принижаются.
Утвердившееся
в современной театральной культуре
направление постмодернизма окончательно
узаконило активное вмешательство в "материал".
Именитые деятели уровня Селларса,
Паунтни, Купфера и др. с наслаждением
устраивают "встречу на гладильной
доске зонтика со швейной машинкой",
теоретически обосновывая строительство
собственного театра. Все органично:
уходящий ХХ век, начав с того, что в
качестве основополагающего творческого
акта пририсовал усы Джоконде, так же и
кончает - всевозможными
переосмысливаниями, перевертышами,
римейками. Ничто в мире не может и не
должно стоять на месте. Далеко позади
осталась уже "фельетонная эпоха" (Г.Гессе).
Ныне встают новые задачи: приноровиться к
развившемуся у современного зрителя
клиповому сознанию. Мышление,
воспитанное на компьютерных играх, "виртуальных
реальностях", общение через Интернет,
приводящее к "сетевому искусству" и
пр., диктует свои законы. Существование
наиболее лихих "затейников"
вынуждает коллег искать нечто небывалое,
сверхизобретательное, тоже эпатировать
выдумками, пусть и поперек авторского
замысла, в противовес ему. Не забудем, что
автора-режиссера не на шутку уже теснит
сценограф: он тоже претендует на
соавторство с композитором, тоже
стремится к самовыражению, рассматривая
сценическое пространство как
возможность разместить тут собственные
самодостаточные конструкции-инсталляции
и пр. И это тоже понятно: время бежит
дальше, всесветно распространившаяся
картинка на дисплее доходчивее
повествовательной логики,
изобразительный ряд подмял под себя не
только звуковой ряд, но и долго
главенствовавшую литературу.
Принимаем
мы или не принимаем такие кульбиты в
современном музыкальном театре - неважно:
против тенденции идти бессмысленно. И я
бы безропотно молчала, если бы не
сверлящая сознание догадка: вдруг многие
оперные деятели - режиссеры театра и кино,
художники, критики и др. - просто не любят
нежной любовью необыкновенный этот жанр?
Повторю трюизм: опера в ее "благородной
условности" (И.Соллертинский) имеет
собственные законы. Зачем браться за нее,
если не благоговеешь перед ней, такой
странной, ирреальной, не-правдо-подобной,
даже смешной в своих условностях, тысячу
раз спародированной, но - святой для тех,
кто попал в ее волшебный мир с детства,
кто принимает ее со всеми ее
несовершенствами и противоречиями? Ведь
только пренебрежением к оперному целому
можно объяснить стремление "реформировать"
ее по кускам, отсекать неугодное,
переводить в плоскость иной, чуждой ей
проблематики, позволять музыке (музыке!)
становиться фоном для совершенно
постороннего зрелища ("контрапункт"!)...
Только неуважением к заложенному в опере
смыслу можно объяснить нарочитое
подчеркивание словесной бессмыслицы ("Как
выйти из этого леса!" - поет Голо, а при
этом сидит на стуле в дворцовом интерьере;
"А старик сидит да пишет", - поет
Григорий, а Пимен в это время не сидит и не
пишет; "Бабы, не наваливайтесь, забор
сломаете" - а никакого забора нет,
только яма; "Кто этот офицер?" -
спрашивает Графиня, а Герман - в
партикулярном платье... Примеров можно
привести тьмы и тьмы).
Однажды
я в виде опыта попыталась угадать по
фотографиям в журнале "Opernglas", из
какой оперы взята та или иная сцена. Ни
разу не угадала. Да и как отличить
незагримированного мужчину в пиджачной
паре из оперы Дебюсси от столь же
незагримированного мужчины в пиджачной
паре из оперы Генделя? Казалось бы, если
господствует ныне такое увлечение
аскетичным декором - куб, пандус и стул - и
современными свитерами и шинелями, то
почему бы не дать честное концертное
исполнение? А все потому же: опера - повод.
Для собственной концепции, собственного
авторского утверждения. Какое уж там
благоговение! Ниспровергатели оперных
штампов создали новые штампы. И мы уже
перестали изумляться распространению
психиатрических лечебниц - в "Орфее"
Монтеверди, в "Летучем Голландце", в
"Иоланте", в той же многострадальной
"Пиковой даме"... Может быть,
следующим поколениям это покажется столь
же диким, как нам - послереволюционные
переделки "Тоски" в "Борьбу за
Коммуну", а "Гугенотов" - в "Декабристов"?
А
может быть, мы вообще зря ломаем копья? Во
все времена бытовали переделки, пастиччо,
транскрипции (правда, честно так и
называясь, они использовали,
заимствовали чужой материал, а не
внедрялись в устоявшуюся целостную
концепцию). Во все времена произведение
искусства проживало новую жизнь,
обнаруживая скрытые пласты, требуя
свежего взгляда, иного осмысления, иного
восприятия, нежели у предшествующих
поколений (правда, не до такой же степени
меняется оперная партитура, чтоб Дон Жуан
оказывался убитым Донной Анной, а Кармен -
Микаэлой...). Ныне, как и во все времена,
ничто не однозначно, далеко не все
театральные деятели угнетающе
радикальны в своих работах, такие "старомодные"
рыцари оперы, как Поннель, Пицци,
Дзеффирелли, послужили ей, как Прекрасной
Даме, самоотверженно и самозабвенно (правда,
адепты бунтарей от оперы более
громогласны и нетерпимы).
И все
же - интересует меня проблема авторского
права. Где - при такой тотальной ревизии
оперного наследия - проходит граница
между нарушением, а в сущности,
присвоением себе чужого авторского права
и мерой собственной активности в поисках
самовыражения? Вряд ли режиссер
сознательно посягает на чужую
собственность. Но почему он об этом не
задумывается? В законодательстве об
авторском праве - совокупности правовых
норм - указано, что вносить изменения и
сокращения в авторский текст можно
только с согласия автора. Либреттист
таковым не является? Или является, но
только избранный, ныне благополучно
живущий и могущий за себя постоять? А за
Модеста Ильича за давностью лет уже и
некому заступиться?
Некогда
умный человек Николай Кашкин назвал
Модеста Чайковского "едва ли не первым
русским либреттистом, вполне понимающим
свою задачу и владеющим достаточным
талантом для ее выполнения". Оценим в
этот юбилейный год масштаб содеянного
крупнейшим радетелем отечественной
культуры. И утешимся тем, что
многофигурного памятника, который он сам
себе поставил, в конечном счете, никому не
дано поколебать.
"...Ты
имел несчастье родиться с душой
художника..."
"Настоящая
твоя сфера - беллетристика..."
"Понимание
- великая вещь... Благодаря этому
пониманию ты никогда не напишешь ничего
пошлого и ничего фальшивого..."
Это -
из обращений Петра Ильича Чайковского к
брату Модесту. Десятилетняя разница в
возрасте не мешала их душевной дружбе,
духовной близости и тесному творческому
сотрудничеству. В четыре руки играли они
на рояле, в четыре руки сочиняли
произведения для музыкального театра.
Модест
Ильич Чайковский - драматург, либреттист,
переводчик, рецензент - был заметной
фигурой в культурной жизни России рубежа
веков. Он родился в тогдашней Пермской
губернии, в Алапаевске, где три года жила
семья Чайковских. Окончил то же Училище
правоведения, что и старший брат.
Некоторое время служил по судебному
ведомству в Симбирске. Рано стал
сотрудничать в газетах. Занимался также
педагогикой: - разработал специальную
систему занятий с глухонемыми.
В 1890-е
годы в российских театрах шли не без
успеха пьесы Модеста Чайковского. Список
их достаточно внушителен: "Благодетель"
("Борцы"), "Похмелье", "День в
Петербурге", "Предрассудки", "Боязнь
жизни"... В "Лизавете Николаевне"
играла Пелагея Стрепетова, в "Симфонии"
- Мария Ермолова, Мария Савина. О
последней из названных пьес ("умной,
интеллигентной"...) с похвалой
отозвался Антон Чехов.
Среди
его переводческих трудов - с четырех
европейских языков - шекспировские
сонеты и "Ричард II", стихи
итальянского поэта Дж. Кардуччи и
трактаты немецкого философа К.Фишера,
тексты кантат Баха и "Новая биография
Моцарта" А.Улыбышева (в оригинале
написанная по-французски).
Эти и
другие виды литературного творчества
позволили Модесту Ильичу пользоваться
уважением и авторитетом у современников.
Для потомков же более драгоценна его
общественная деятельность. Именно ему мы
обязаны профессионально-безупречным
сохранением памяти о Петре Ильиче,
возникновением научно-исследовательского
центра, мемориального музейного
комплекса в Клину. Сразу после смерти
композитора М.И. немедля выкупил (совместно
с племянником Вл. Давыдовым) дом брата,
сосредоточил тут - и систематизировал -
рукописное наследие, первым начал
обработку богатого архива. Собрав семь
тысяч писем (и переведя иноязычные на
русский язык), записав по горячим следам
воспоминания современников - от Германа
Лароша до Фанни Дюрбах, он создал
капитальный трехтомный труд "Жизнь
Петра Ильича Чайковского". Далее он
занялся изданием критических статей, "музыкальных
фельетонов и заметок" композитора.
Годом его смерти (1916) датируется
подготовка к печати переписки
Чайковского с Сергеем Танеевым.
Следующие поколения музейных работников
шли уже по пути, намеченному первым
хранителем Дома. Его материалами -
понятно, дополняя, обогащая,
пересматривая и развивая их - пользуются
в Клину и поныне.
Инициатива
М.И. беспрецедентна. Объем выполненного
им огромен. Важность такой
целенаправленной, оперативно-своевременной,
на редкость тщательно собирательской и
исследовательской деятельности трудно
переоценить (из всех выдающихся коллег-современников
Чайковского только Римскому-Корсакову
достались столь же энергично действующие
родственники). Уже один этот общественно
значимый подвиг по увековечению памяти
великого музыканта мог обеспечить
преданному брату почетное место в
сознании благородных россиян.
Однако
есть еще один существенный прорыв
младшего Чайковского в вечность. Если
работы драматурга не пережили своего
времени, то иная судьба была уготована
работам оперного либреттиста, тем из них,
которые состоялись как оперная партитура.
Крепко завязанные в один нераздельный
узел с музыкой, великой или просто
добротно-мастеровитой, они уже неотрывно
приставали к нотному тексту, составляли
вместе с ним общее целое. М.И. сотрудничал
с Антоном Аренским ("Наль и Дамаянти")
и с Арсением Корещенко ("Ледяной дом").
К нему обратился многолетний шеф
Мариинского театра, убежденный
пропагандист оперного творчества
Чайковского Эдуард Направник, приступая
к своей собственной опере "Дубровский".
С главой другого - московского Большого -
театра Сергеем Рахманиновым он писал "Франческу
да Римини". И, конечно, самое основное -
ему посчастливилось готовить либретто
для двух последних опер гениального
брата (упомянем в скобках, что при
благоприятных обстоятельствах они могли
бы быть и не единственными; кроме того, М.И.
принимал некоторое участие в разработке
сценария балета "Щелкунчик").
Петр Ильич
сочинял "Пиковую даму", как всем
известно, во Флоренции. Откуда он, работая
с лихорадочной быстротой, слал письмо за
письмом своему соавтору, торопя его,
отзываясь на тот или иной присланный
кусок либретто, что-то сразу принимая, а
что-то рекомендуя взамен. Все
складывалось удивительно согласованно.
"То, что писал Модест Ильич, может
считаться как бы написанным Петром
Ильичом", - замечал Г.Ларош. Со своей
стороны, и М.И. умел подсказать,
вдохновить, чутко предвосхитить. Из
переписки и других документальных
свидетельств процесса создания музыки
ясно видно, как превращалось либретто "для
Н.Кленовского" (этому композитору и
дирижеру, ученику П.И., оно первоначально
и предназначалось) в либретто "для
Чайковского", какие советы давал П.И.
("избегай многословия...") и какой
оценки он в результате удостоил брата
("...либретто превосходно, и видно, что
ты знаешь музыку и музыкальные
требования...", "Модест молодец").
Со своей стороны М.И. утверждал: "Воспоминание
об этом сотрудничестве навсегда
останется у меня в памяти как одно из
лучших в жизни".
То же
вскоре повторилось и с "Иолантой":
братья работали быстро и без разногласий.
"Нужно сказать, что либретто в полном
смысле слова великолепно", "...отлично
сделано, а стихи местами очень, очень
красивы", - отмечал П.И.
Временной
интервал между обоими сочинениями -
трагедийным оперным романом и камерной
лирической повестью - совсем мал, но можно
увидеть тут отражение той общекультурной
российской ситуации, когда на смену
великим романистам начали приходить
великие рассказчики. Впрочем,
воздержимся от вскользь затрагиваемой
классификации шедевров. Главное, что и
"Пиковая дама", и "Иоланта",
перешагнувшие столетний возраст, давно
стали классикой мирового музыкального
искусства. И зажили самостоятельной
театральной жизнью. "Иоланта" почти
ничего не растеряла на этом пути. Разве
что подправлялись в советское время "идейно-чуждые"
строки: вместо "Первенца творенья" (Божьего)
редакторы ставили "Дар природы вечной"
и т.д. (о тяге к пересмотру концепции - чуть
позже). Зато "Пиковая дама"...
Опера
эта по-своему знаковая. Ее воздействие во
все времена на умы и души - композиторов
ли, певцов, дирижеров, прославленных
мастеров, неискушенных слушателей - было
поистине гипнотическим. После нее
художник уже иначе думал "о Летнем саде,
о ранней петербургской грозе, о Зимней
канавке, обо всем том, что... благодаря
музыке, стало еще сильнее хватать за душу"
(А.Бенуа). Великая, аккумулирующая,
инспирирующая, многоаспектная,
многоуровневая, она неизменно идет в
большинстве оперных театров мира и во
всех театрах России. Десятки раз записана
(знаю, в частности, интереснейшие
интерпретации итальянскими артистами на
итальянском языке). Она становилась
предметом неисчислимых научных
исследований и публицистических очерков,
- причем не только музыковедческих, но и
литературоведческих, философских,
психоаналитических и пр. И именно "Пиковой
даме" досталось принять всевозможные
удары - справа, слева, снизу, - оказаться
средоточием открытых и тайных творческих
дебатов, выдержать насилие
ниспровергателей и эксперименты
реформаторов.
Удобным
поводом к пересмотру смысла и
драматургии оперы стала проза Пушкина,
само существование пушкинского гения.
Правда, специалисты издавна убедительно
доказывали - и принуждены доказывать до
сих пор, что "Пиковая дама" Пушкина и
"Пиковая дама" братьев Чайковских -
два разных художественных организма, и
мерить их следует по их собственным
эстетическим законам. Но это
принципиальное отличие не останавливает
тех, кто одержим желанием подчинить любое
явление своей авторской воле. Основная
фигура среди них - появившийся в ХХ веке
третий могущественный соавтор оперного
произведения - театральный режиссер.
Крупномасштабная
"пушкинизация" оперы началась со
знаменитого спектакля Всеволода
Мейерхольда. Именно он утвердил в оперном
театре мысль о самоценности,
самодостаточности режиссерского взгляда,
о праве, и даже, может быть, обязанности
постановщика в угоду собственной
концепции вольно обращаться с оперным
текстом, как вербальным, так и
музыкальным. Эту мысль быстро подхватили
коллеги. Пренебрежительное отношение к
смыслам "Пиковой дамы" -
концепционным, музыкально-драматургическим,
интонационным, фабульным - оправдывалось
пиететом перед Пушкиным ("Вернуть к
первоисточнику!"), а режиссерским
амбициям помогал авторитет Мейерхольда (да
и кто согласится, что "Quod licet sovi, non licet bovi").
После
шумной истории с замыслом Юрия Любимова
возражения против режиссерского
произвола и вовсе стали невозможны:
всякое этическое и эстетическое
несогласие с радикальными
переакцентировками в оперном тексте
выглядело бы как, не дай Бог, недостойная
травля, грубое нарушение свободы
творчества современного художника. Все
же рискну такое несогласие высказать.
Недавно осуществил собственную фантазию
на темы "Пиковой дамы" многими
лаврами увенчанный Лев Додин. О его
спектакле - показанном в Париже,
Амстердаме, Флоренции - газета "Мариинский
театр" уже писала. Полагаю, не только
меня удивило, что в наше время усиленной
заботы об аутентичности ("чтоб все
звучало как при жизни автора!") можно
снова и снова беспрепятственно резать и
перекраивать партитуру, передавать
реплики одного персонажа другому, вместо
"ура, ура!" петь принципиально
противоположное по смыслу "молись,
молись" и т.д. Явление это -
знаменательное: обычно режиссеры-новаторы
с их "бьющей через край фантазией"
все реже теперь замахиваются на сам
нотный текст. В случае же с "Пиковой
дамой", поставленной в ее родном городе
Флоренции, понимаешь: если даже
композитор, имеющий реноме
непревзойденного мастера формы, "направленной
на восприятие" (Б.Асафьев),
хрестоматийно признанный оперный
драматург подвергается бесцеремонно-вольному
обращению, то на что может рассчитывать
его сравнительно более беззащитный
соавтор-либреттист?
Со
школьной скамьи помню: оперный
либреттист - вечный "мальчик для битья".
У него редко бывала презумпция
невиновности, шла ли речь о советской
опере (перечитайте материалы любой
острой дискуссии!), о Моцарте ли ("Да
Понте не поднялся до него", "Шиканедер
не поднялся..."), о Глинке ли (у "Жизни
за Царя" и "Руслана" - пресловутые
семь нянек)... Тем как бы оправдывалась
необходимость внедрения в негодный текст,
забота о помощи и исправлении грехов. Не
составляли исключения и те композиторы,
которые были сами себе драматургами-либреттистами.
Они тоже находились постоянно под
подозрением, что навредили собственному
детищу: "вмешались ретрограды и
заставили дописать" (Мусоргский), "вмешались
власти и заставили доработать" (Прокофьев),
"пребывал в плену всяческих
заблуждений и устарел" (Вагнер).
Между
тем, кто вправе провести демаркационную
линию между либретто и партитурой, между
идеей и нотной ее фиксацией, между духом и
буквой, замыслом сценарным и замыслом
музыкально-драматургическим? Материя эта
тонкая, надави - сломаешь. Но ведь
согласимся, что оперный текст в широком
смысле слова - это и ситуация, и характер,
и интонация, и сюжет, и тембровое решение,
и общая драматургия, и даже ремарки - и все
это в непостижимой, таинственной
нерасторжимости. Драматург-либреттист
умирает в драматурге-композиторе, но
продолжает жить в партитуре. Поэтому
несостоятельным выглядит часто
встречающееся в театральной практике
презрительное отталкивание сюжетных
коллизий от музыки, которой как раз и
клянутся в верности: "я так ее слышу".
Что ж, музыка - неконкретна, "несказанна",
слышим мы ее по-разному. Я могу сколько
угодно внутренне сопротивляться, когда
вижу постановки опер Моцарта или
Прокофьева сплошь в грязно-сумрачных
тонах. А мне возразят: где предписано, что
ре мажорная музыка - скорей золотого,
оранжево-солнечного света? И как нам
доказать человеку, не откликающемуся на
заложенные в интонации, в вокально-инструментальном
образе - жест, пластику поведения, что
Онегин не может скакать и валяться на
полу? Боюсь, у невнимательных к тонкостям
первоисточника интерпретаторов музыка
вовсе не предстает очищенной от "нежеланных
наслоений". Насильственный отрыв
Вагнера-композитора от Вагнера-драматурга
совсем не идет на пользу общему делу и
партитуре в частности. Идеально-возвышенное
низводится до будничного, повседневного,
мифологические обобщения обытовляются,
мельчают, идеи самопожертвования,
искупления принижаются.
Утвердившееся
в современной театральной культуре
направление постмодернизма окончательно
узаконило активное вмешательство в "материал".
Именитые деятели уровня Селларса,
Паунтни, Купфера и др. с наслаждением
устраивают "встречу на гладильной
доске зонтика со швейной машинкой",
теоретически обосновывая строительство
собственного театра. Все органично:
уходящий ХХ век, начав с того, что в
качестве основополагающего творческого
акта пририсовал усы Джоконде, так же и
кончает - всевозможными
переосмысливаниями, перевертышами,
римейками. Ничто в мире не может и не
должно стоять на месте. Далеко позади
осталась уже "фельетонная эпоха" (Г.Гессе).
Ныне встают новые задачи: приноровиться к
развившемуся у современного зрителя
клиповому сознанию. Мышление,
воспитанное на компьютерных играх, "виртуальных
реальностях", общение через Интернет,
приводящее к "сетевому искусству" и
пр., диктует свои законы. Существование
наиболее лихих "затейников"
вынуждает коллег искать нечто небывалое,
сверхизобретательное, тоже эпатировать
выдумками, пусть и поперек авторского
замысла, в противовес ему. Не забудем, что
автора-режиссера не на шутку уже теснит
сценограф: он тоже претендует на
соавторство с композитором, тоже
стремится к самовыражению, рассматривая
сценическое пространство как
возможность разместить тут собственные
самодостаточные конструкции-инсталляции
и пр. И это тоже понятно: время бежит
дальше, всесветно распространившаяся
картинка на дисплее доходчивее
повествовательной логики,
изобразительный ряд подмял под себя не
только звуковой ряд, но и долго
главенствовавшую литературу.
Принимаем
мы или не принимаем такие кульбиты в
современном музыкальном театре - неважно:
против тенденции идти бессмысленно. И я
бы безропотно молчала, если бы не
сверлящая сознание догадка: вдруг многие
оперные деятели - режиссеры театра и кино,
художники, критики и др. - просто не любят
нежной любовью необыкновенный этот жанр?
Повторю трюизм: опера в ее "благородной
условности" (И.Соллертинский) имеет
собственные законы. Зачем браться за нее,
если не благоговеешь перед ней, такой
странной, ирреальной, не-правдо-подобной,
даже смешной в своих условностях, тысячу
раз спародированной, но - святой для тех,
кто попал в ее волшебный мир с детства,
кто принимает ее со всеми ее
несовершенствами и противоречиями? Ведь
только пренебрежением к оперному целому
можно объяснить стремление "реформировать"
ее по кускам, отсекать неугодное,
переводить в плоскость иной, чуждой ей
проблематики, позволять музыке (музыке!)
становиться фоном для совершенно
постороннего зрелища ("контрапункт"!)...
Только неуважением к заложенному в опере
смыслу можно объяснить нарочитое
подчеркивание словесной бессмыслицы ("Как
выйти из этого леса!" - поет Голо, а при
этом сидит на стуле в дворцовом интерьере;
"А старик сидит да пишет", - поет
Григорий, а Пимен в это время не сидит и не
пишет; "Бабы, не наваливайтесь, забор
сломаете" - а никакого забора нет,
только яма; "Кто этот офицер?" -
спрашивает Графиня, а Герман - в
партикулярном платье... Примеров можно
привести тьмы и тьмы).
Однажды
я в виде опыта попыталась угадать по
фотографиям в журнале "Opernglas", из
какой оперы взята та или иная сцена. Ни
разу не угадала. Да и как отличить
незагримированного мужчину в пиджачной
паре из оперы Дебюсси от столь же
незагримированного мужчины в пиджачной
паре из оперы Генделя? Казалось бы, если
господствует ныне такое увлечение
аскетичным декором - куб, пандус и стул - и
современными свитерами и шинелями, то
почему бы не дать честное концертное
исполнение? А все потому же: опера - повод.
Для собственной концепции, собственного
авторского утверждения. Какое уж там
благоговение! Ниспровергатели оперных
штампов создали новые штампы. И мы уже
перестали изумляться распространению
психиатрических лечебниц - в "Орфее"
Монтеверди, в "Летучем Голландце", в
"Иоланте", в той же многострадальной
"Пиковой даме"... Может быть,
следующим поколениям это покажется столь
же диким, как нам - послереволюционные
переделки "Тоски" в "Борьбу за
Коммуну", а "Гугенотов" - в "Декабристов"?
А
может быть, мы вообще зря ломаем копья? Во
все времена бытовали переделки, пастиччо,
транскрипции (правда, честно так и
называясь, они использовали,
заимствовали чужой материал, а не
внедрялись в устоявшуюся целостную
концепцию). Во все времена произведение
искусства проживало новую жизнь,
обнаруживая скрытые пласты, требуя
свежего взгляда, иного осмысления, иного
восприятия, нежели у предшествующих
поколений (правда, не до такой же степени
меняется оперная партитура, чтоб Дон Жуан
оказывался убитым Донной Анной, а Кармен -
Микаэлой...). Ныне, как и во все времена,
ничто не однозначно, далеко не все
театральные деятели угнетающе
радикальны в своих работах, такие "старомодные"
рыцари оперы, как Поннель, Пицци,
Дзеффирелли, послужили ей, как Прекрасной
Даме, самоотверженно и самозабвенно (правда,
адепты бунтарей от оперы более
громогласны и нетерпимы).
И все
же - интересует меня проблема авторского
права. Где - при такой тотальной ревизии
оперного наследия - проходит граница
между нарушением, а в сущности,
присвоением себе чужого авторского права
и мерой собственной активности в поисках
самовыражения? Вряд ли режиссер
сознательно посягает на чужую
собственность. Но почему он об этом не
задумывается? В законодательстве об
авторском праве - совокупности правовых
норм - указано, что вносить изменения и
сокращения в авторский текст можно
только с согласия автора. Либреттист
таковым не является? Или является, но
только избранный, ныне благополучно
живущий и могущий за себя постоять? А за
Модеста Ильича за давностью лет уже и
некому заступиться?
Некогда
умный человек Николай Кашкин назвал
Модеста Чайковского "едва ли не первым
русским либреттистом, вполне понимающим
свою задачу и владеющим достаточным
талантом для ее выполнения". Оценим в
этот юбилейный год масштаб содеянного
крупнейшим радетелем отечественной
культуры. И утешимся тем, что
многофигурного памятника, который он сам
себе поставил, в конечном счете, никому не
дано поколебать.
Эра
Барутчева
©
2000, газета "Мариинский
театр"
|