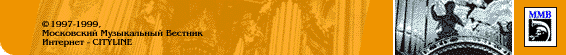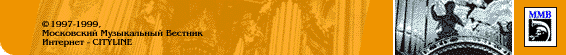| |
Музыкальная
столица Европы
"Французское обозрение-99" (фрагменты)
Париж,
несомненно, остается главной культурной
столицей Европы и мира, — несмотря на все
конкурсы и «переходящие знамена». И уж
главной оперно-музыкальной столицей —
это точно. Было время, когда знаменитую
Opera de Paris не включали даже в первую пятерку
оперных компаний. Сегодня она, безусловно,
в первой тройке, потеснив и венскую
Штаатсопер, и Ковент Гарден. Но в Париже
имеется еще и театр Шатле, чьи
многочисленные проекты способны вызвать
зависть и у старшего собрата. Если
добавить сюда сверхинтенсивную
концертную жизнь, в которой участвуют
едва ли не все мировые звезды, картина
окажется еще более впечатляющей. Такой
интенсивности художественных событий
могли бы позавидовать и многие из самых
крупных фестивалей.
«Галантные
Индии»
Конец тысячелетия —
самый подходящий момент для пересмотра
приговоров, которые самонадеянные
потомки периодически выносят творениям
гениев “от имени и по поручению” Времени,
Истории или, на худой конец, Народа. Вдруг
обнаружилось, что время может быть
непостоянным, история — непредсказуемой
(о народе лучше и вовсе умолчим). И вот уже
невозможно без иронической усмешки
читать еще сравнительно недавно вполне
авторитетные суждения, что даже оперы
Генделя, не говоря о Рамо, абсолютно
несценичны и, следовательно, не могут
быть поставлены. Конечно, если подходить
с сугубо реалистических позиций, сей
тезис неоспорим. К счастью, сегодня даже в
России начинают понимать, что опера и
реализм — вещи, если и не совсем уж
несовместные, то во всяком случае
малосовместимые. (Правда, на репертуаре
наших театров это пока почти никак не
сказалось, но причины тут лежат уже
совсем в иной плоскости, нежели
сценичность или несценичность тех или
иных произведений...) Оперы Генделя нынче
принадлежат к числу репертуарных хитов. С
Рамо сложнее, хотя за последнее
десятилетие увидели свет рампы многие
его творения. Один из тех, кто больше
всего сделал для их сценического
возрождения — выдающийся музыкант
Уильям Кристи, создатель всемирно
прославленного оркестра Les Arts Florissants,
только что отметившего свое
двадцатилетие. И, право, трудно было и
придумать лучший подарок к этой дате —
себе и публике, — чем постановка “Галантных
Индий” на сцене Palais Garnier.
"Галантные
Индии" в постановке Андрея Щербана —
это, быть может, идеальная модель
барочного спектакля, спроецированного в
наше время. Не в смысле, Боже упаси,
актуализации, но в плане иронических
вариаций. Кажется, что лучше это
поставить просто невозможно. Перед
зрителем предстает идеальная модель
позднего цвета французского барокко, ибо
в спектакле материализуется дух эпохи
Людовика XV — гедонизм, безудержная,
своевольная фантазия, пьянительно
безумный карнавал, в который вовлекается
вся Вселенная от Персии до Америки. Дух
этот живет во всем — в нагромождении
театральных чудес и музыкальных
удовольствий, в так и сыплющихся на
голову зрителю метафорах и аллегориях, в
бескомпромиссной приверженности
приятному разнообразию и нигде не
изменяющему вкусу к украшениям. Но
спектакля коснулась и утонченность, «легкое
дыхание» рококо. Хаотическое
нагромождение материи обуздано вкусом и
мерой. Стройность ли это, или только ее
иллюзия — в потоке впечатлений нет
времени разобраться, — но каждая деталь на своем месте, обыграна и отделана.
Коснулась новых «Индий» и
восприимчивая чувствительность эпохи
Ватто. Подана она, правда, в основном
пародийно, через преувеличение, — но ведь
и рококо иронии не чуждалось, даже
наоборот.
«Галантные Индии» — самое
известное, исполняемое и успешное
произведение Рамо. Успешное при жизни
автора: в 1735 году — 28 спектаклей подряд в
течение двух месяцев при сборах, в
полтора-два раза превышавших средние,
затем многократные возобновления (мы
присутствовали на 484-м представлении на
сцене Парижской Оперы). В начале нашего
века Поль Дюка предсказал, что с «Галантных
Индий» начнется возрождение Рамо. Так и
случилось, и в 1952 году «Индии» были
поставлены в Опере, в 1983-м — в Шатле, в 1990-м
— в Экс-ан-Провансе (последние две
постановки осуществлялись уже при
участии Кристи и Les
Arts Florissants), и это еще не все.
Таким образом, к концу века сложилась
достаточно солидная постановочная
история, к которой можно добавить по
меньшей мере три полные аудиозаписи.
Здесь нужно учесть,
что «Индии» — это опера-балет, жанр,
соединяющий все мыслимые театральные
удовольствия в необременительной для
публики форме. Вечер, проведенный в
театре, заполняют в этом случае три-четыре
акта (антре), каждый на свой собственный
сюжет, но объединенные общей поэтической
идеей. Тема «Галантных Индий», как ее
формулирует либреттист Рамо аббат
Фюзелье, такова: «Хотя излюбленная
страсть Героев, прославляемая Богиней
Гармонии, внушает те же чувства у обоих
Полюсов, существует разница в языке,
которым ее выражают. Исключим взгляды,
которые разделяются всеми, и которые не
допускают, чтобы Амур был чужестранцем ни
в одной земле: Вселенная — его родина. Но
хотя Влюбленные везде следуют одному и
тому же закону, их Национальные Характеры
неодинаковы; этого достаточно, чтобы
распространить в Лирической Поэме это
разнообразие, столь необходимое теперь,
когда источник простых и естественных
Услад, кажется, иссяк на Парнасе...»
В общем-то, «Галантные
Индии» — это карнавал. Целый вечер
французы на сцене переодеваются в турок,
итальянцев, поляков, инков, испанцев,
персов, португальцев, североамериканских
индейцев, сохраняя свои чувства, мысли,
язык и манеры. «Галантные Индии» еще раз
объявляют всему миру, что Париж — его
столица, вмещающая все и вся, и
феерическое качество нового спектакля
это вполне подтверждает.
Сюжет в опере-балете
прост, интрига элементарна (не более трех-четырех
активных участников), содержание
схватывается с полувзгляда, без всяких
усилий. Стоит персонажам
произнести полторы-две сотни
стихотворных строк — и вот уже коллизия
счастливо разрешена, а участники
торопятся в объятия дивертисмента.
Предпримем же небольшую прогулку по
Индиям.
В прологе,
обрисовывающем главную тему
произведения, нежная Геба (богиня юности)
и воинственная Беллона сражаются за
молодежь Франции, Испании, Италии и
Польши. Вечная тема французской оперы!
Слава привлекает молодых людей больше
удовольствий, и Амур, раздосадованный тем,
что Марс объявил ему войну, летит за
пределы Европы, чтобы там одержать сотни
новых побед.
Первое антре, «Великодушный
турок» — прародитель глюковских «Пилигриммов
в Мекку» и моцартовского «Похищения из
сераля». Султан Осман влюблен в свою
пленницу Эмилию, но уважает ее чувства.
Кораблекрушение выбрасывает на берег
возлюбленного Эмилии Валера. Осман-паша (которого
эти европейцы несправедливо обзывают
варваром), обливаясь слезами, дарует
влюбленным свободу.
В «Перуанских
инках» — почти тот же треугольник. Фани,
перуанка королевской крови, любит
испанского офицера Карлоса — одного из
тех алчных завоевателей, что разрушили
храм Солнца. Соперник Карлоса — Гюаскар,
верховный жрец Солнца. Чтобы доказать
Фани, что боги на его стороне, Гюаскар
инсценирует землетрясение: по его
приказу в кратер вулкана бросают кусок
скалы («это гораздо правдоподобнее
обычных оперных чудес», — объясняет
аббат Фюзелье и призывает в свидетели
путешественников и натуралистов). Дон
Карлос разоблачает хитрость жреца.
Вылетевший из жерла вулкана камень
карает неверного.
Третье антре — «Цветы.
Персидский праздник» — дает, наконец,
некоторый отдых от треугольников. Его
интрига строится на небольшом
недоразумении на почве двойного
травестийного переодевания. Такмас (персидский
принц, переодетый торговкой из сераля)
проник в сад своего фаворита Али, чтобы
выведать истинные чувства прекрасной
рабыни Али Заиры (как позднее выяснится —
черкесской принцессы), в которую Такмас
влюблен. В свою очередь, в Али влюблена
грузинка Фатима — невольница Такмаса.
Переодевшись польским рабом, она
проникла в тот же сад с аналогичными
целями. После некоторой путаницы чувства
всех разъясняются, и в честь этого
начинается «Праздник цветов» — балет на
собственный сюжет, первоначально
завершавший «Индии».
Но зато в добавленных год
спустя «Дикарях» действуют целых три
соперника индейской принцессы Зимы —
ветреный француз Дамон, серьезный и
ревнивый испанец дон Альвар и идеальный
дикарь Адарио, командующий войском
дикарской нации, которого Зима и выбирает.
В честь дружбы народов «Дикари» (и «Индии»
в целом) завершаются танцем «Большой
трубки мира».
Что дает режиссеру
такое либретто? Свободу. И Андрей Щербан
вольно фантазирует, оставаясь вместе с
тем верным категориям прекрасного и
изящного, невероятно чутким и к лексике
стиха, и к атмосфере, темпу, аффекту
музыки. Щербан заранее обещал зрелище,
полное «легкой энергии»: «ни карикатуры,
как в фарсе «Платея», ни больших
риторических жестов, как в «Ипполите и
Арисии», но легкая, гибкая, текучая
структура, где можно найти утонченность
деталей, где юмор не усиливается до
пародии, где эмоция поэтична, но не
сентиментальна». Как следует из этих слов,
он опасался, с одной стороны, аляповатого
кича, с другой, — тотальной пародии и все
иссушающей злой иронии. И Щербану удалось
соткать гармоничную поэтическую
атмосферу, которой не противоречили его
юмор и умение развлекать.
Художник Марина Драгичи
счастливо избежала тяжелой роскоши кича.
Ее решение иногда кажется даже почти
костюмным. Во всяком случае, нет
монументальных декораций — скорее набор
аксессуаров и бутафории, причем сделано
все очень условно. Все легко, подвижно и
непрочно. Впечатление, что стоит Борею
дунуть — все тут же улетит. Обстановка
мгновенно меняется, и мы легко
переносимся вслед за Амуром из страны в
страну. Хотя нарисовано очень много, даже
избыточно. Есть рисованные занавесы (нечто
среднее между раскладной книжкой и
диафильмом), есть ширмы, есть
спускающиеся сверху «облака», есть
качающиеся перуанские вулканы (плоские,
тоже нарисованные), есть, наконец, сотни
неповторяющихся, хотя бы в деталях,
костюмов.
Разнообразие оформления
диктуется переменами места действия. Это
становится поводом для развертывания
целой системы символов и аллегорий. В
каждом антре наслаиваются друг на друга
символика цвета, стихии, предметов. В
Турции цвет — синий, стихия — вода,
аксессуары — море, матросы, дельфины,
русалки, пираты, корабли. В Перу —
бордовый цвет с золотом, огонь, солнце,
вулканы, в Персии — зеленый цвет, воздух,
цветы, бабочки, в Америке — желтые тона,
земля, кукуруза, супероткормленная
курица, бизоны.
Цветовая доминанта,
господствующая природная стихия — это
далеко не все, что создает неповторимый
колорит каждого из четырех антре:
чувствительного, серьезного,
легкомысленного и блестящего. Наибольшее
разнообразие заключено все же в музыке
Рамо. Кристи дирижирует бесконечную
сюиту (три с половиной часа!), столь же
бесконечно варьируя удовольствия для
ушей, — но и для глаз тоже: духовики
иногда выходят из ямы на сцену, и два
волынщика в «шотландских» костюмах
надежно приковывают к себе внимание. И
оркестр, и группа континуо непрерывно
меняют тембровые лики, хотя бы
в оттенках. Гедонистическое правило
аутентизма — не играть одинаково ни две
ноты, ни два украшения подряд. Поэтому и
две идущие одна за другой пьесы не могут
иметь идентичный тембровый облик. Многие
из солистов поют по две партии,
представая в различных амплуа и
ситуациях: Хейди Грант Мёрфи — Эмилия и
Заира, Натан Берг — Осман и Али, Мален
Артелиус — Геба и Фани (на премьерных
спетаклях эти партии исполняла Натали
Дессей, которую мы застали только в роли
индейской принцессы Зимы), Лоран Наури —
Гюаскар и дон Альвар.
Музыка — это свойство
самой партитуры Рамо — буквально
балансирует на грани бесформенности.
Выручает непрерывная поддержка со
стороны сценического действия, которое
ни на секунду не дает нити оборваться.
Сценический ряд, конечно, влияет не
только на восприятие музыки, но и
оборачивается большей выразительностью
ее исполнения: как музыканту не
отреагировать на трогательные позы
бедной Эмилии, на тяжелую статику
массовых сцен в обрамлении суровых
перуанских гор, на буйные телодвижения
туземных плясок? Тем более такому
музыканту, как Уильям Кристи, который всю
жизнь обитает в самой театральной из эпох
— в барокко.
Уильям Кристи дирижирует
с улыбкой, оркестранты весело
поглядывают на сцену. «Индии» заключают в
себе мощный эмоциональный заряд —
радость жизни звучит в каждой ноте,
именно ради этого отшлифованной до
полного блеска. Почему?
Потому что эмоциональная и поэтическая
доминанта спектакля — веселое
сумасшествие столицы мира. И публика
уходит, чтобы еще несколько дней напевать
рефрен из «Дикарей»: «Мирные леса, мирные
леса, Тщетное желание не тревожит здесь
наши сердца...»
Но в этой честной
конкуренции искусств участвует еще и «легкая
энергия» танца. Бланка Ли — не специалист
по историческому танцу и не скрывает
этого. В причудливые танцы и пантомимы
пролога тут и там вкраплены барочные па,
которые в таком контексте тоже звучат
причудливо. А затем, оттолкнувшись от
барокко, хореограф устремляется в
объятия ориентальных фантазий, плясок в
голливудском духе, абстрактного «симфонического»
балета, который разворачивается поверх
бесконечной сюиты «Балета цветов» с
легким изяществом несовпадения цезур
музыки и танца. А в «Дикарях» танцуют
бизоны...
Помимо обновления стиля,
типа движений фирменный прием Бианки Ли
здесь — появление среди однородной
группы танцовщиков чуждых персонажей:
среди моряков вдруг, откуда ни возьмись,
на несколько секунд возникают турки,
среди Цветов — Али с Фатимой, и так далее
до бесконечности.
И наконец,
заключительный «Танец Большой Трубки
Мира». Еще в 1990 году, в связи с предыдущей
постановкой «Индий», Кристи говорил: «Танец
Большой Трубки Мира, Танец
солнцепоклонников — наивные образы,
родственные нашему Фоли-Бержер. Мелодии
прилипают к ушам и коже: из них можно
сделать почти шлягеры». Поэтому дикари
увлеченно и уверенно отплясывают рок-н-ролл.
Но настоящая кульминация настигает
почтеннейшую публику, когда «Трубка мира»
повторяется по окончании на бис, и Уильям
Кристи, поднявшись на сцену и дав ауфтакт,
канканирует с Натали Дессей.
ГЛЮКОВСКАЯ ДИЛОГИЯ
Театр Шатле
предлагает художественное событие не
менее, если не более захватывающее —
премьеру глюковских «Орфея» и «Альцесты»,
представленных как своеобразная оперная
дилогия. Масштаб события предопределяет
уже сам масштаб имен — Джон Элиот
Гардинер, Роберт Уилсон, Анна Софи фон
Оттер...
Глядя, как два крупнейших
оперных театра Парижа открывают сезон
произведениями композиторов, в свое
время считавшихся антиподами, можно
подумать, что исторические баталии
продолжаются и сегодня. Как известно, в
веке XVIII-м — во многом стараниями
энциклопедистов — оперы Глюка надолго
вытеснили Рамо с французской сцены. А на
заре века XX-го Клод Дебюсси со товарищи
вернулись к этой антитезе, но уже с
противоположного конца, объявив Глюка
погубителем французской оперы и даже,
более того, —французского национального
духа в музыке, идеальным выразителем
которого они провозгласили именно Рамо.
Время разрешило этот спор, и сегодня оба
великих мастера отнюдь не кажутся
антагонистами, — несмотря на то, что один
завершает целую эпоху, тогда как другой
открывает новую. Премьеры “Галантных
Индий” и “Орфея” с “Альцестой”
прекрасно сосуществуют в едином
художественном контексте нынешнего
Парижа, давая равно убедительные ответы
на те вопросы, что ставит перед
современным театром опера XVIII века.
Как и в «Галантных Индиях»,
в постановке глюковских опер мы имеем
перед глазами пример столь же
счастливого и гармоничного единения
музыки и сцены. Кристи или Щербан,
Гардинер или Уилсон? Вопрос о лидерстве
тут даже не возникает.
Начнем все-таки с
Гардинера. И отнюдь не только потому, что
он — одна из ключевых фигур сегодняшней
музыкальной Европы. Для Глюка Гардинер
сыграл и продолжает играть ту же роль, что
Кристи для Рамо (впрочем, «Бореадов»
первым поставил и записал как раз
Гардинер). Скажут: но ведь Глюка, в отличие
от Рамо, исполняли и ставили всегда. Да,
конечно, но, во-первых, слишком редко, а во-вторых,
почти исключительно в искаженном, то бишь
адаптированном виде. Именно Гардинер в
своих постановках и записях явил, наконец,
подлинного Глюка во всей его величаво-благородной
красоте. Но вот парадокс: в
отличие от первой, итальянской редакции «Орфея»,
французскую Гардинер и записал около
десяти лет назад на фирме Erato, и поставил
теперь в Шатле в редакции Берлиоза.
Позицию Гардинера по этому поводу,
отчасти изложенную в премьерном буклете,
можно понять следующим образом: а) во
французской редакции партия Орфея
предназначалась для тенора, но тенора,
который мог бы устроить в этой партии
Гардинера, сегодня нет; б) Берлиоз,
ориентировавшийся в своей работе на
Полину Виардо, вернул партию Орфея к
альтовому варианту; в) вместо того, чтобы
делать еще одну сводную редакцию, лучше
воспользоваться партитурой Берлиоза, тем
более что из всех многочисленных
редакторов глюковских опер Берлиоз
позволил себе наименьшие отступления от
подлинника.
«Альцеста», впрочем,
звучит в оригинальной французской
редакции 1776 года (Гардинер лишь убрал
вставной балет, написанный Госсеком, и
транспонировал четыре фрагмента для фон
Оттер). По словам дирижера, «мы получили
привилегию быть свидетелями
последовательных этапов эволюции
классической музыки». Поэтому
инструменты и строй строго соответствуют
двум датам — 1776 и 1859. Авторскую
французскую редакцию «Альцесты» играют «Английские
барочные солисты», а берлиозовскую
версию «Орфея» — «Революционный и
романтический оркестр» (те же музыканты,
но вооруженные другими инструментами;
манера игры, правда, различается менее,
чем можно было ожидать).
Гардинер, однако, — не
только музыкант, но и человек театра. Это
ощущаешь даже в его записях. Неслучайно
он неоднократно сам брался за режиссуру.
И совершенно закономерно, что
интерпретация одной и той же оперы в
записи и в театральной постановке у него
может подчас весьма существенно
отличаться. Вот и «Орфей» (к «Альцесте»
Гардинер обратился впервые, так что и
сравнивать не с чем) звучит во многом
иначе, чем на известной записи, причем не
только потому, что здесь были другие
солисты и другой оркестр. Думается, что самое
непосредственное воздействие на
музыкальное прочтение партитуры оказало
сценическое решение Роберта Уилсона.
Уилсон как всегда творит
тотальный театр, где нет разделения на
режиссуру, сценографию, хореографию, свет
etc., а есть единый демиург. Равным образом
в создаваемом им ирреальном, словно бы
застывшем мире отсутствует деление на
царство мертвых и царство живых. По сцене
разливается холодное сияние, кажется, что
ты не только физически ощущаешь, но прямо-таки
видишь разреженный воздух горных вершин,
от которого замирает дыхание. Облаченные
в одинаковые бесполые балахоны,
персонажи перемещаются в соответствии
скорее с законами хореографии, нежели
режиссуры в обычном понимании, создавая
ощущение бесплотности, бестелесности.
При этом собственно танцы в спектакле
отсутствуют, а соответствующая музыка
получает совершенно иные функции.
Например, большой танец фурий превращен в
одинокое странствие Орфея по подземельям
Аида, внушающее леденящий ужас.
Уилсон словно бы
стилизует (пользуясь выражением
Гардинера) “последовательные этапы
эволюции классического искусства”.
Совершенная ясность, абсолютная чистота
стиля, ничего лишнего, ничего случайного.
Как в драматургии французского
классицизма, общение героев сведено к
минимуму, и даже диалогические сцены
превращены в монологи, обращенные теперь
не к публике, а к чему-то неведомому, глазу
смертного недоступному. Певцы в
совершенстве освоили язык скульптурных
трагических поз, в которых художники
академического толка любили изображать
великих актеров своего времени. И наконец,
в последней сцене “Орфея” Уилсон
неожиданно закрыл “потусторонние”
скалы опустившейся сверху декорацией,
воспроизводящей театральную сцену
времен Глюка.
Во время благополучного
финала «Орфея» на заднике внезапно и
загадочно возникает каменная глыба,
постепенно приближающаяся и
увеличивающаяся в размерах. И тут, словно
в сериале, где действие всегда
прерывается на самом интересном месте,
как раз опускается занавес. Таким образом,
зрителям как бы дают понять: продолжение
следует. Камень и впрямь оказался словно
бы неким мостиком, перекинутым от "Орфея"
к "Альцесте". Там уже камни куда
больших размеров то и дело появляются,
нависая над сценой, и исчезают. Впрочем,
есть подозрение, что Уилсон хотел таким
образом просто подразнить европейскую
публику (и критику), любящую, по его словам,
«во всем искать смысл».
В отличие от строгого и
лаконичного "Орфея", в «Альцесте»
Уилсон начал чуть-чуть улыбаться, нарушив
чистоту высокого штиля. Появились
скульптуры до колосников, забегали дети,
а в сцене битвы Геркулеса (выведенного
этаким каратистом) с фуриями помощь богов
смертному предстала в пародийном
изображении. "Альцеста" Уилсона
вроде бы и более разнообразна по приемам,
но вместе с тем и не столь цельна. В целом
же соотношение двух спектаклей отражает
соотношение между самими операми —
абсолютным шедевром "Орфеем" и
неровной, порой затянутой "Альцестой".
Впрочем, Гардинер, не
смутившись известными недостатками
оперы, почти сумел обратить их в
достоинства. (Тем более что Альцестой у
него была поистине великая певица Анна
Софи фон Оттер, не просто с редким
совершенством исполнившая партию
фессалийской царицы, но и сообщившая
образу истинно трагедийный масштаб. В
отличие, к примеру, от Магдалены Кожены,
которая превосходно спела партию Орфея,
оставаясь вместе с тем своего рода "первой
корифейкой", фон Оттер в «Альцесте»
смогла встать на один уровень с
создателями спектакля.) По словам маэстро,
«хотя музыкальной материи недостает
разнообразия или фантазии, Глюк трогает
нас своим красноречием, благородством и
чистотой выражения эмоций». Гардинер же
более всего трогает соединением ясности
и выдержанности стиля с экспрессией, с
которой оркестр живописует путь сквозь
потусторонние миры. И еще слиянием
воздействия музыки и театра, когда ловишь
себя на ощущении, будто звучание голосов
и оркестра рождается из холодного
свечения, льющегося из глубины сцены.
Мрачная ирреальность
спектакля потрясает. Абсолютное
совпадение идеи, стиля и избранных
приемов воплощения делают эту
герметичную дилогию, эту законченную
вещь в себе мощным художественным
переживанием.
Анна Булычева, Дмитрий
Морозов
Полностью
"Французское обозрение-99"
опубликовано в газете "Мариинский
театр" , № 11-12, куда также вошли рецензии на
постановки "Пиковой дамы" Льва
Додина и "Турандот" в Opera
Bastille
и заметки о концерте
РиккардоМути с оркестром Ла Скала в зале
Плейель.
Кстати, из
всех аутентистов он — единственный,
кто систематически занимается Глюком.
Нам не встречалось ни одной глюковской
записи Арнонкура и Кристи. Минковский
записал только «Армиду». Якобсом
осуществлены записи «Эха и Нарцисса», «Китаянок»
и «Оправданной невинности» —
сочинений, не относящихся к числу «реформаторских».
Гардинером же к настоящему времени
записаны две редакции «Орфея», «Ифигения
в Авлиде», «Пилигримы в Мекку», музыка
балета «Дон Жуан»; на очереди — «Альцеста».(назад)
«Орфея и
Эвридику» в берлиозовской редакции
Гардинер записал на фирме EMI
classics в
1989 году с оркестром Лионской Оперы.
Заглавные партии исполнили Анна Софи
фон Оттер и Барбара Хендрикс (назад)
|